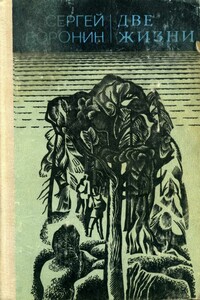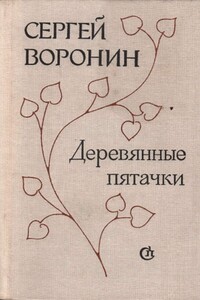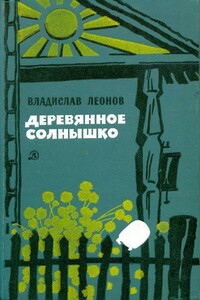Сын глядел на мать с портрета чуть улыбаясь. И рядом с ним были спокойные, открытые лица, теснившие его и сверху, и снизу, и с боков. И все же каждому из них было просторно. Все они погибли. И три брата Журавлевых на войне. И Степан Авдеевич в партизанах. И Катюшка, еще совсем девчонка, повешенная за связь с партизанами. И Николай Мельников, погибший на войне. И двое братьев-подростков — Лунгиных детей, запоротых насмерть за то, что не выдали, где находятся партизаны. А они и не знали где, — прятались от немцев в лесу и пришли за рамами для землянок в деревню. А тут их и прихватили. Подумали, что они пришли на разведку... И много, много еще деревенских, своих в этих трех рядах.
— Не все еще фотографии достали, — донесся до бабы Нюши голос заведующей. — Всех погибло сто восемьдесят семь человек из нашей деревни, а фотографий только шестьдесят восемь.
Ее сына фотография есть, чистая, большая. Ее пересняли школьники с маленькой, которая хранится дома у старухи. Он на ней такой, каким был перед войной. Баба Нюша глядела на фотографию и вспоминала, как вытаскивала его из-под кровати, всего в крови, мертвого. Как звала, заглядывала в глаза, думая, что он еще видит, но в глазах была уже закатная тусклота и ничего в них не отражалось. Даже свет от окна. Даже солнце. Кричала семилетняя дочка: «Братушка, что я наделала! Братушка, что я наделала!» — и каталась по полу возле него.
«А рука-то стала уже оживать», — вспомнила старуха, но без боли, как давно пережитое. И вдруг в таком знакомом лице не то чтобы увидала, а как-то почувствовала, что ее сын, вот на этой стене, не только ее сын, а еще какой-то другой человек, чем-то уже отрешенный от нее, слившийся со всеми, кто погиб, кого уже давно нет в живых. И все они вместе иные, чем каких она знала, — не просто деревенские, а тоже отрешенные. Кто убитый, кто повешенный, кто замученный. Она переводила взгляд с одного лица на другое, и все они были такие близкие и такие далекие. И какая-то неуловимая грань стояла между нею и этими людьми, собранными воедино, отдавшими свою жизнь за Родину. И сын, как бы уже в святом отдалении, глядел на нее.
1977
Василию Шукшину
Надо же, нежданно-негаданно Лешка Зайцев заявился собственной персоной. Спрыгнул из автобуса с небольшим чемоданом, в джинсах, обтянувших, как две деревянные ложки, его сухой зад, в черной кожаной курточке, с длинными до плеч волосами и бородой.
В своей родной деревне Лешка не был пять лет. И за все это время только один раз подал весть о себе — в первый год прислал матери десятку. Так что Ксения не знала, что и думать о нем. Жив ли или уже и нет на земле. И не раз, проходя мимо кладбищенских ворот, останавливалась перед кирпичными столбами, в облезлых нишах которых были изображены спаситель и мать-богородица, и шептала молитву, чтобы они сохранили ей сына, если он живой и невредимый.
И вот он явился. Стоял на родной земле и оглядывался. И вид у него был победный.
— Чего нос-то задрал, аль не узнаешь? — подошел к нему сухонький старик, прозванный в деревне Репьем.
— А, Кузьмастиныч, привет и солнце, как говаривает мой лучший друг и наставник дядя Петя. Жив еще? — оглядывая улицу поверх головы старика, ответил Лешка.
Улица была все та же, какой он видел ее в последний раз. И тополя были такими же, вроде нисколько и не выросли. И родительский дом стоял на прежнем месте. Никуда не делся.
— Чего это ты какую куделю выпустил на харю? — разглядывая Лешку, спросил старик. — Впротчем, и у твово деда была не гуще. Такая же срамная. — Это Репей тут же отплатил Лешке за вопрос — жив ли он еще.
Но Лешка на его слова не обратил внимания и, легко потряхивая чемоданом, направился к своему дому — наискосок от автобусной остановки.
Мать была дома, чистила картошку. Сидела, склонив седую голову. Лешка постоял на пороге открытой двери, подождал, пока мать своим материнским сердцем почувствует его, — не почувствовала, хотя в последнее время часто думала о нем.
— Привет и солнце! — громко, так что Ксения вздрогнула, сказал Лешка и размашисто прошел через кухню к матери.