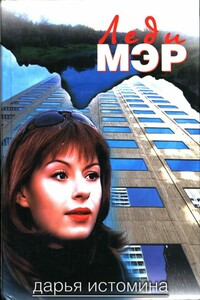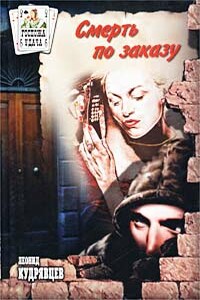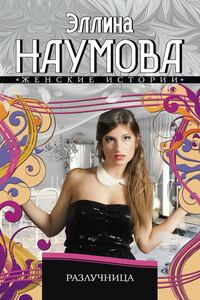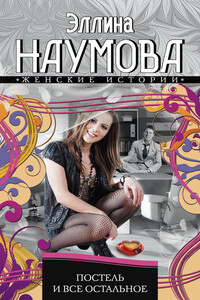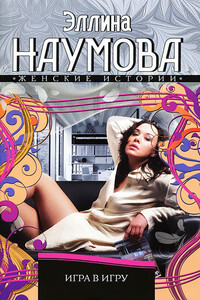Бдительно ждущую от людей неприятностей Трифонову медленно, но верно перевоспитывал шкаф, в котором свободно разместилась только ее одежда. Ему помогала тумбочка под зеркалом — на ней открыто стояла вся косметика, а не валялась на полу в целлофановом пакете, чтобы не растащили. И телевизор способствовал: хозяйка пялилась в один, а квартирантка — в другой. Сначала она только каналы переключала, не веря, что может остановиться на любом. В родном доме у нее была своя комната. Но там все контролировали мама с папой. В бунтарском отрочестве девочке не удалось приучить их стучать. Вламывались и грузили чем хотели. Даже в общежитии поначалу казалось, что воли больше. И у Андрея Валерьяновича она, скорее, гостила, чем пыталась обосноваться. Фантазировала, будто живет, но не жила.
Клиника вообще находилась в некоем другом измерении. Не в новых обязанностях было дело, а, как водится, в людях. Прежние говорили только о деньгах на еду, которых никогда нет, и семейных неурядицах, которые всегда в избытке. Чаще же всего однообразно материли начальство и власть. Нынешние, в принципе, тоже, что с людей возьмешь, но совсем иначе. Готовя операционную, медсестры трепались о процентных ставках по потребительским кредитам. Обсуждали интернет-магазины. Когда речь заходила о мужьях или сожителях, упоминали разнообразные чувства вплоть до любви, а не твердили в один голос: «Осточертело все». Когда на языках вертелись неугомонные дети, хвастались их успехами в детских садах, школах и рассказывали, где какие бесплатные кружки и секции остались. Сравнивали, дико выговорить, человеческие качества руководителей терапевтического и хирургического отделений, а не кто больше украл. У них были политические взгляды! Они симпатизировали разным партиям. Размышляли о стране. Уму непостижимо, но Катя своими ушами слышала диалог:
— Галя, нас спасут аскетичные честные китайцы, если заменят этих торговцев анашой из Средней Азии.
— Согласна, Юля, но при условии, что китайцы примут православие.
— Не дай бог! Какой тогда от них толк? Как от нас?
Но самым удивительным было то, что начинали все в обычных стационарах, а затем сами предложили себя частным клиникам. И эта, только что открывшаяся, была в послужных списках большинства не первой. Люди искали, где выше зарплата, пока Катя и другие иногородние сестры радовались, что их из поликлиники не гонят. Но ведь и здесь тоже были приезжие! В общежитие никто из них и не думал соваться, делили комнату с какой-нибудь женщиной.
— А как вы искали напарницу? — допытывалась обалдевшая Трифонова.
— Звонили по объявлениям, спрашивали у хозяек, пока не нарывались на разрешение: «Одна уже есть, но не прочь платить меньше, возьму еще». В общаге едва ли не дороже, а условия хуже, и свободы — ноль. Глупо там маяться.
Катя, которую бабушка сразу настроила на опыт своей послевоенной юности — терпеть все, даже не спросила себя, почему этого не делала. Не знала такого варианта. Только госучреждение, трудовая книжка и пять этажей комнат с десятью стервами в каждой. «Так можно было обойтись без Анны Юльевны? Самой устраиваться и не обязательно сюда? — думала она. — Все это время у меня были перспективы? Странно».
Девушка быстро осознала, что примерно так существуют и врачи, и менеджеры. И, страшно подумать, владельцы этой клиники и других. Различие лишь в количестве денег, которые они получают и тратят на места, где живут, учат чад, куда ездят отдыхать и развлекаться. И такие, как она недавняя, общежитские, пашущие за копейку на государство и мечтающие выбиться в люди из дворняг, и бомжи, завидующие дворнягам, тоже везде есть. А жизнь в столице или крупном городе всюду дороже, но независимей, чем в провинции. Дело лишь в проклятой начальной сумме, которая обеспечивает крышу над головой и кусок хлеба. Чушь. У нее всегда были крыша и хлеб. И она ненавидела их гораздо сильнее, чем предательское небо и верный голод. Значит, причина всех причин в ней?
Еще недавно, сходя с ума из-за невольного дезертирства Андрея Валерьяновича Голубева с поля ее боя за счастье, то есть возможность получать то, что хочется, Катя Трифонова едва не загнала себя в могилу такими бесплодными рассуждениями. Именно они грубо подталкивали ее к самоубийству. Кто-то из соседок приволок в комнату горшок с китайским можжевельником. То ли подарили — дешево и красиво, то ли стащила при озеленении убогого офиса, в котором работала. Одна ветка была гораздо длиннее остальных и причудливо изгибалась. Так Катю, посмотревшую на нее бездумно секунд десять, вдруг осенило: «В этой прихотливой колючей ветке смысла больше, чем во мне». Объяснить почему она не смогла бы. Просто взбрело в голову, которая безо всяких медитативных усилий норовила отключиться от действительности.