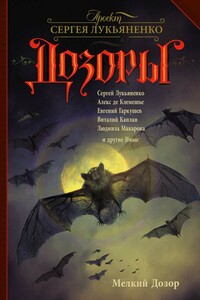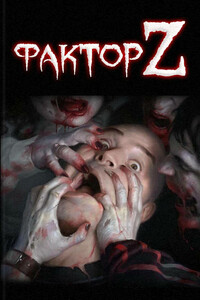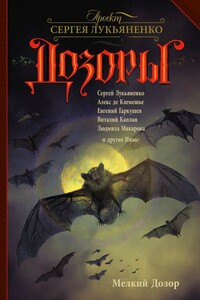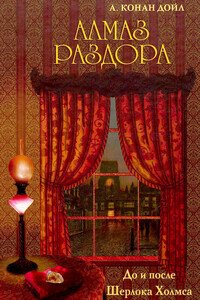- Но критики...
Её голос зазвучал резче.
- Критики, которые хоть чего-нибудь стоят, сказали, что ты - шут гороховый, и так оно и есть. А всё стадо погналось за последним писком моды. Они не понимали этих выкрутасов, потому что никто на это не способен, и, поскольку не могли их понять, говорили, что картины хороши, конечно же, подталкиваемые в правильном направлении Стивом. И это создало шевеление, шевеление означало большую известность, а она означала большие продажи, и я получила свою тысячу долларов более месяца тому назад. Бог мой, я не могла позволить тебе пытаться рисовать вещи, предметы, что-либо узнаваемое. Твои работы были бы инфантильными.
- Но ты говорила мне ... Уилма, ты сказала мне, что я особенный. Ты сказала, что мне нужно быть ...
- Самонадеянным. Конечно. Тебе нужно было отнестись к себе очень серьёзно. Тогда и другие будут относиться к тебе так же. Тебе нужно было поверить в себя. Это была часть сценического замысла, дорогой. Боже милостивый, да если замухрышке без конца твердить, что она хорошенькая, она начнёт в это верить, и даже станет лучше выглядеть. Можно лепить людей, придавая им определённую форму, как маисовым лепёшкам. Почти любую форму, какую тебе хочется.
- Я - хороший художник, - сказал я ей.
Она потрепала меня по колену.
- Бедный Гил. Нет, детка. Ты никакой не художник. Вообще никакой. Ты - здоровенный парень с мускулами и ты хорошо провёл время, правда? Конец сцены, детка. Все свободны. Возможно, Эвис сумеет сбыть ещё кое-что, но через год никто и не вспомнит, кто ты такой. Если только ты не сможешь и дальше платить Стиву гонорары, а я прекрасно знаю, что ты не сможешь, потому что не скопил ни гривенника. А я, конечно же, не собираюсь и дальше этим заниматься.
- Ты нужна мне, - сказал я. - Мне нужно приходить и разговаривать с тобой. У меня начинает уходить почва из под ног, и тогда мне нужно придти и ...
Она убрала свою руку.
- Да послушай же! Ну как можно быть таким бестолковым? Это была хохма. Дошло? Уилма развлекалась. И ты тоже. А теперь Уилме это наскучило. И ты и хохма. Мне просто не интересно в твоём обществе, Гил. Ты не умеешь поддержать разговор, и манеры у тебя неважные, и ты всё ходишь, красуешься и поигрываешь мускулами. Я сбрасываю тебя со своей шеи. Если ты не дурак, то найдёшь приятный чистенький прилавок, встанешь за него, наденешь мартышечью шляпу и начнёшь подавать сыр на ржаном хлебе.
Она оставила меня там. Я увидел ее внизу, на причале. Она смеялась со Стивом. Они смеялись надо мной. Я это знал. Я был ничем, и они сделали из меня что-то, а теперь снова делали из меня ничто. Я сидел, опустошённый. Я был словно фигура, которую можно сделать, изогнув проволочные вешалки для пальто так, чтобы они повторяли очертания человека. Можно было смотреть сквозь меня. Видеть звёзды, огни и всё остальное. И звуки проходили прямо сквозь меня, и легкий бриз, дувший наверху, там где я сидел.
И в самой середине проволоки начала расти маленькая штучка. Круглая, прочная и блестящая. Она всё росла и росла, пока не заполнила всю проволоку, и тогда я снова стал самим собой и мне захотелось рассмеяться в голос. Самой лучшей шуткой будет та, которую сыграют с ней.
Они повесили это на пробковый стенд. Это было нарисовано на плотной белой бумаге, и они прикрепили это четырьмя жёлтыми чертёжными кнопками, по одной в каждом уголке. Я вырисовывал каждый листок. У меня ушли на это долгие часы. Каждый маленький листик, а у каждого листика пять кончиков. Однажды рисунок куда-то исчез, и я спросил, но никто не знал, что с ним случилось, я хотел сделать его заново, но времени не было.
Потому что к тому времени мы уже разбивали сад. Я ненавидел сад. Я работал весь день, раздавливая пальцами каждое семечко перед тем, как положить его в ямку, которую выкапывал палкой. Там ничего не выросло.
Она думала, что сделала меня. Я сам себя сделал. Но я видел опасность, даже в этом. Опасность того, что она проболтается. Станет смеяться над этим. И другие станут смеяться. Вот так, как они смеялись там, внизу. Я не мог этого допустить. Я не мог этого позволить.