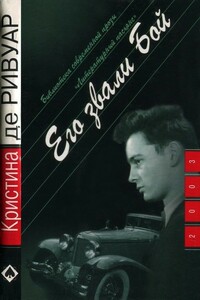— Может еще и записку оставить — с извинениями? — язвит Казак.
— Извинения побереги, нам с тобой сейчас отчитываться, — говорит Лешка — Замполит, тоскливо оглядывается в сторону бани. — Седой, вы тут с Молчуном дальше сами, а мы с Казаком пойдем свой втык получать. Бабы–то их куда делись?
— С этими все в ажуре, не заблудятся, — говорит Седой. — По дороге сейчас, чешут к большаку. Не успеют — они в туфельках, а босиком тоже далеко не уйдут — городские пигалицы. Эти самые и подберут их.
— Может таки в распыл всех? Пойти — переспросить?
Смотрит в сторону бани и сам себе отвечает.
— Если бы так, Первый сам бы вышел — засветился. Трофеи хоть есть? Дайте с собой, может, отмажемся.
— То не свято, что силой взято!
Молчун кидает сумку.
— Не густо, — заглянув, разочарованно тянет Замполит. — И на такую–то кодлу? Нищета!
Начинает перебирать. Действительно, две гранаты с запалами непонятно какого срока хранения, дешевые ножи–штамповки под «Рембо», пистолет Макарова с пятью патронами в обойме, короткоствольный газовик и еще «Вальтер», но этот уже в таком состоянии, что нормальный знающий человек не рискнет стрельнуть — явно с войны, раскопанный недавно, с раковинами по металлу.
Сунув сумку Петьке, идет к бане. Казак тянется следом, и по ходу щупая трофейные ножи, громко возмущается:
— Какое барахло! Где Китай, а где мы? Заполонили!..
Приветствуют стоя.
— Товарищи офицеры! — полушутя–полусерьезно командует Извилина, когда группа возвращается на «домывку».
Все вытягиваются.
Лехе это льстит — повод всерьез доложиться о выполнении задания.
— Наблюдали, — говорит Георгий. — В целом одобряем. Есть некоторые замечания, но не сейчас. От лица разведки объявляю благодарность!
Наливают по стопке до краев — протягивают. Казак с Лехой ухают залпом, цепляют по ломтю бастурмы, Седой, осушивая в два глотка, занюхивает куском хлеба, Федя — Молчун лишь чуточку пригубливает от своей — никто не настаивает.
Если можешь справиться с четырьмя, справишься и с сотнею, надо только быть храбрее на пару секунд дольше — этого для победы вполне достаточно. Сирано де Бержерак — реальное историческое лицо, поэт и забияка, однажды, не по прихоти, а в порыве праведного гнева (что все меняет, что заставляет делать несусветные вещи тех, кто черпает силы в собственной правоте), самоотрешенностью духа и чего–то там еще, что выхватил лишь в известном ему, вызвав на дуэль разом около сотни человек, разогнал их всех до единого своей шпажонкой — ему даже не пришлось особо убивать и ранить… так, какой–то десяток или полтора.
Если человек не боится смерти, он уже храбрее. Нет, не так! — поправляет себя Георгий. — Лишь храбрый знает, что когда смерть в глаза смотрит, она слепа. Смерти и боли боятся все, каждый из нас, только порог у всех разный. Не столько боимся, как досадуем об ней. Смерть — это досада, последняя неприятность, за которой их уже не будет. Потому спрашивать себя надо так: «Готов ли ты к смерти? Если готов, то пусть она тебя не страшит. Потому как здесь, тысяч поколений русов, в той забытой памяти, что смотрит на тебя и надеется, что находится в тебе самом, за миг до собственного порыва, словно вдогонку, складывается следующий вопрос, уж не требующий ответа: — «Готов ли ты напугать смерть?»..
Георгий — человек храбрый, но умный, как все храбрые люди, прошедшие определенный возрастной рубеж.
Есть храбрость отчаянная, и храбрость от отчаянья, и они не равны друг другу. Азартная и безысходная, и они не родственники. Нет лучше храбрости расчетливой, но она не награждается. Медали штампуют храбрым крайностям — именно они удивляют. Вот и сейчас, по сути — бой, но не из тех, которым будешь гордиться и рассказывать. Риск минимальный, случайный, но все равно трепетно, от этого и разгорячены.
Чтобы поймать смерть, нужно подойти к черте. На черте черти, они ее и составляют.
— Специально главных матерщинников отправил? — обрезает его мысли Седой. — Надеялся уболтают? Перематерят?
Седой к матерной речи относится неодобрительно — предубеждение «о перерасходе» на этот счет имеет железное, многих перевербовал, доказывая собственную правоту. Леха срывается, а Казак категорически неисправим, оба постоянно огорчают Седого.