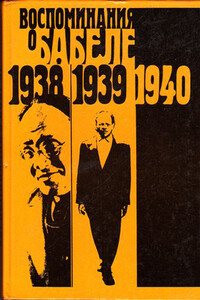—Я быстро, я сейчас, — говорю я, — надо только машину. Надо позвонить в экспедицию.
— Машина есть... мы на ней приехали...
— Ну-да, ты же из Баяна... Я сейчас... сейчас...
В палате прощаюсь со всеми и — в Баян, ставший на какое-то время родным домом.
* * *
Весть о войне пришла так глуховато, что я даже не придал и значения этому. И не только я. Все изыскатели. Не поверили в ее серьезность. Так же было и в Финскую кампанию, когда я находился в Селемджинской экспедиции в тайге. Поэтому нас больше заботили наши изыскательские дела. Как работали, так и работали. Я камералил, сидя на веранде. До меня доносился низкий гул Кушкара-чай. Грело солнце. Рядом играла Наталка. Мария работала в штабе чертежницей. Все шло как надо. Но однажды вечером ко мне приходят Иван Фомин и Колька Иванов. Ставят на стол бутылку джа-джи, и четверть красного вина, и брынзу, и чурек.
— Нет-нет, ребята, — говорю, — я пить не буду...
— Будешь, — убежденно говорит Иван. — Обязательно будешь. Последний свет. Больше свету не будет.
— Живите без нас, как хотите, — сказал Колька и ласково улыбнулся, доставая из своего завхозовского портфеля кружок копченой колбасы.
— Что случилось? — спросила Мария.
— Уходим на фронт, — просто ответил Иван.
Мы выпили. Попрощались за руку, — тогда не было принято, как ныне, целоваться мужикам, — и они ушли.
А через неделю пришло Постановление Наркомата Обороны о том, что изыскатели мобилизации не подлежат. На нас наложили «бронь». Как выяснилось, нас не так-то уж было и много во всей стране.
Осень застала нас в узком ущелье, у подножия гор. Мы жили в палатках. Все ущелье было занято виноградниками. Горы крутыми стенами нависали над нами. Везде уже солнце, а у нас в ущелье все еще было туманное, мозглое утро. На всем лежала роса, и, вылезая из палатки, мы дрожали. Как язычники, с надеждой и мольбой глядели на вершины гор, ожидая солнце. И оно подымалось над вершиной, и мир мгновенно преображался. Все начинало сверкать, холодный воздух густел, туман беспокойно шевелился в виноградниках, выпутываясь из густопереплетенных лоз, жаркие солнечные лучи достигали земли, подхватывали туман, заворачивали его, как ковер, и выталкивали из ущелья. И на весь день устанавливался недвижимый зной. Ветра никогда не было в нашем ущелье.
Виноградники охранялись. Не только от людей, но и от собак. А собак было много, и все они были голодные. Вообще, нигде я так много не видал беспризорных собак, как на юге. И часто в нашем ущелье гремели выстрелы. Это сторожа стреляли по собакам.
Никто из нас, изыскателей, не посягал на колхозный виноградник. Мы бы купили, но колхоз не продавал. Но как удержаться, чтобы не сорвать ягоду с тугой, тяжелой грозди. Виноград был крупный, сладкий, без косточек. Так что мы знали, каков он есть. Но закон есть закон, и если нельзя, значит, нельзя. Однажды попросил я у сторожа для дочки, но сторож сделал вид, что не понимает меня. И я отстал.
Решила все сама Наталка. Взяла и пошла в виноградник. Я хватился, когда ее уже и след простыл. Мария была в «поле», а я вычерчивал поперечники, старался получше, побольше сделать и прозевал Наталку. Тут уж не надо было большого воображения, чтобы представить, как эта кроха шевелит виноградные лозы, отрывая ягоду за ягодой, и как сторож может принять ее за собаку и выпустить по шевелящемуся кусту заряд.
— Наташа! Наташа! — закричал я и тут же понял, что звать ее нельзя, что может получиться еще хуже, и тогда я запрыгал на одной ноге к шалашу сторожа. — Не стреляй! Не стреляй!
Он стоял возле шалаша с ружьем, старик, в мохнатой шапке.
— Там моя дочь, — показал я на виноградник, — маленькая, — и показал, какая она от земли. — Не собака, девочка. Понимаешь? Девочка!
Он понял меня, грустно улыбнулся и повел в просторный каменный сарай. В нем стояли высокие громадные бочки длинными рядами. Пахло кислым вином. У входа дотлевал очаг. В стороне, у корзин, спали ночные сторожа. Старик наполнил стакан молодым вином и подал его мне.
Вино было холодное, сладкое и совсем слабое, вроде виноградного сока.
— Воевал, да? — участливо спросил старик, показывая на мои костыли.

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)
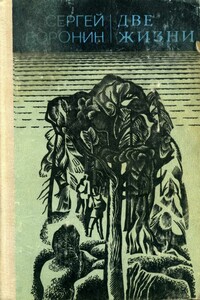



![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)