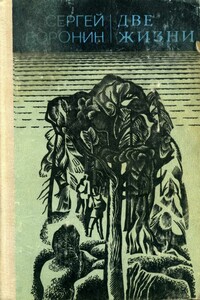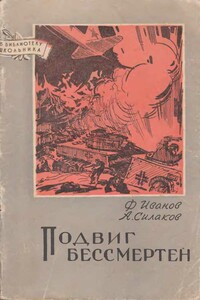Я подумал, что лучше — соврать или сказать правду? И решил промолчать. Старик мое молчание понял так, как ему хотелось понять, и наполнил еще стакан вином, а потом насыпал винограду в корзину, и все это, грустно улыбаясь, сочувствуя мне.
* * *
Осенью поползли упорные слухи, что нашу Дашкесанскую законсервируют. И хорошо, что мы с Марией поверили слухам. Стали потихоньку готовиться к отъезду.
Вдоль дороги росли громадные деревья грецкого ореха. Я уже говорил о них, — вроде дубов. Те самые, которыми я заманивал к себе Марию. И мы начали «сбор орехов». Для этого надо было только запустить геологический молоток, — его преимущество перед всеми другими молотками в его ручке, она длинная, и молоток летит, как пуля, — так вот надо его запустить в гущину ветвей, и в ответ сразу посыпется град орехов. Они, правда, еще не совсем созрели, в зеленой толстой кожуре. Но она легко снимается, хотя от этого занятия пальцы становятся черными, их трудно отмыть, и местным жителям нетрудно догадаться, кто занимается колхозными орешками.
Много, много раз взлетал наш молоток в гущину крон грецкого ореха, и труды увенчались заслуженным успехом, — не прошло и недели, как мы набили сушеными ядрами целый чемодан. Килограммов пятнадцать было, не меньше, этих ядрышек, так похожих в своих извилинах на человеческий мозг. Теперь можно было готовиться и в любой далекий путь.
Был декабрь, когда мы закончили изыскания в ущелье и снова перебрались в Баян, в штаб экспедиции. На улочках уже лежал мокрый снег, было сыро, промозгло, и в домах топили жестяные печи. По вечерам, прежде чем лечь спать, мы набирались тепла возле раскаленных боков печки — и сразу в постель, потому что в нашей комнате было так же сыро и промозгло, как и на улице, и мы жались друг к другу, согревая своим теплом Наталку.
Я знал, что брат со своей семьей и матерью выехал из Ленинграда на Урал еще осенью, вместе с «Лентранспроектом», и поселил семью в Мысах, есть такая деревня, а сам бывал только наездами, мотаясь по командировкам. И, казалось бы, ничто не предвещало беды. И вдруг: «Вот и похоронили Ленюшку... На городском кладбище... поставили пирамиду... на могиле выступали большие начальники...» Я читал и ничего не понимал. Отчего он умер? Болел? Несчастный случай? Что было с ним? Что было с ним? Это во мне внутри кричало, хотя какое это могло иметь значение, отчего он умер. Леня! Ленька! Почерк был матери. Это ее почерк, с нажимом, неровные буквы. Я схватился за голову и тут же снова стал перечитывать письмо. «..Похоронили Ленюшку... пирамидку... начальники... вот и не стало... ты единственный...» Во мне все задрожало. Леня! Ленька!..
Я и не знал, что он мне так дорог. Пока был жив, редко думал о нем, есть, знаю, есть, живет — и ладно. Если уж очень задумаюсь о нем, то можно и письмо написать, ответит — и опять все в порядке. А теперь, что же, пиши не пиши, ответа не будет? И я никогда не увижу его, Леньку, моего родного, единственного брата? «Брат, брат, брат, брат!» — так он всегда обращался ко мне, Ленька-частобай, парень без самолюбия, мягкий, добрый, безотказный, всю жизнь боявшийся темноты и покойников. Ах, Леня, Леня... брат мой единственный. Слухач, Ленька-слухач! В десять лет уже играл на американском баяне, где-то отец достал ему такой. Как он играл! Стоило услышать по радио любой новый мотив — и несся домой, и тут же подбирал его, напевая себе под нос, и через каких-нибудь десять — пятнадцать минут уже вовсю наигрывал новый фокстрот или какую песню. Как он играл! Леня, Ленька, брат мой! В институте ему не давали стипендии — сын служащего, был тогда такой порядок, — так он играл на свадьбах, веселил гулявший люд в пивных, так зарабатывал себе на хлеб, потому что отца уже не было, а одной матери трудновато прокормить себя да еще его. И вот его нет, Леньки-слухача! Так его звали баянисты. Его дважды приглашали на концерт, где присутствовал Киров. Ах, Леня, Леня... Инженер-мостовик, покладистый парень, куда угодно пошли, поедет. Весь в отца. Ездил, болтался по командировкам, в то время как другие, ничуть не лучше его, сидели в тепле проектной конторы, ловкачи чертовы, а он мотался по холодным вагонам, спал, где придется, ел, как выйдет, потому что был покладистым парнем. И вот его нет, Лени, брата моего. Я плакал и вспоминал все, что было связано с ним. У него были оттопыренные уши, и его дразнили: «Лешка-калмычок!» И брат смущался, краснел и прижимал кепкой уши к голове...

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)