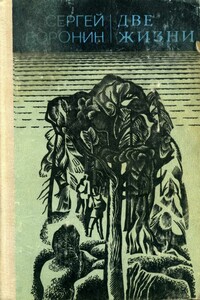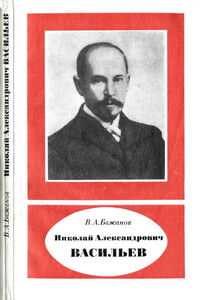— Иван! — закричал я. — Иван! Иди сюда. Я ногу сломал!
Он спрыгнул ко мне, увидал мою вывернутую подошву, и его стало тошнить.
А потом меня везли в кузове полуторки, головой к кабине, в Кировабад, в больницу. Машина подскакивала на выбоинах, ухабах, каменистых горбах, и всякий раз я подскакивал, сотрясался, бился головой об пол, и подскакивала и падала сломанная нога, и все это было уже поздним вечером в темноте, и я чувствовал, как по лицу текут слезы, хотя и не плакал. Со мной никого не было. Ребята погрузили, дали стакан джа-джи, к ноге привязали с двух сторон палки. А что еще? Я ни о чем не думал. Так, полузабытье. Боли не было, острой, чтобы на крик. Не было ее и тогда, когда в приемном покое положили ногу в шину, переодели во все больничное и снесли меня в палату.
Оказались сломанными обе берцовые и раздроблены лодыжки. Это показал рентген.
— Ну, как, под общим наркозом будем собирать ногу или под местным? — спросил хирург Поляков.
Я предпочел под общим, местный знал, рвал зубы. Общий надо попробовать. И тогда меня с носилок перенесли на операционный стол, привязали к нему длинными рукавами специального халата, положили на рот и нос марлю.
— Считайте, — сказал мне хирург Поляков. — Капайте, — сказал он сестре.
И она стала капать на марлю эфир, и я тут же захлебнулся и выкрикнул: «Десять... одиннадцать», и стал считать дальше, до девятнадцати, но почему-то перескочил на «двадцать пять» и тут же поправился, «двадцать», и услышал, как хирург Поляков отрывисто сказал: «Капайте, капайте!» И в ушах у меня понеслось: «капайте, капайте, капайте, капайте...» И я увидал в свете солнечного чистого дня себя и Марию. Я держу ее за руки; гляжу в глаза, в ее голубые глаза. Она смеется во весь свой сочный рот, полный белых зубов. И я целую ее, и вдруг понимаю, что все это обман. Это мне нарочно хирург Поляков подсунул Марию, чтобы я отвлекся, а сам в это время отрезает мне ногу.
— Ну, нет... Нет! — закричал я и вскочил. Сел. Оказывается, все уже сделано. Поляков моет руки. Сестры укладывают ногу в гипс.
Так чего ж мне ее ревновать,
Так чего ж мне болеть такому? —
сразу же начал читать я стихи. Почему? Пьян был от эфира. Наверно, поэтому.
Наша жизнь — простыня да кровать!
Наша жизнь — поцелуй да в омут! —
это я уже декламировал в палате. И не заметил, как определили сломанную и уже составленную ногу на вытяжение, для чего подвесили два кирпича через ролик к моей пятке, ухватив ее кость стальными щипцами.
Я еще немного пошумел и уснул. Проснулся уже трезвый. У моей кровати стоял Поляков, улыбался, глядя на меня, как на родного. Проверил пульс, температуру, поговорил о стихах. Мне было приятно такое его внимание, и я по наивности, да и еще по некоторой доле тщеславия, приписал это своей непохожести на других в палате. Тем более что и на другой день, и в течение еще двух-трех дней Поляков приходил ко мне как к родному, а потом, убедившись, что все у меня идет как надо, не только перестал ко мне подходить, но даже и не глядел в мою сторону, когда входил в палату. Его интересовал уже другой больной, недавно поступивший азербайджанец, с раздробленной ступней. Ехал он на арбе, запряженной парой буйволов. Было знойно. Буйволы шли медленно. Уснул. И свалился с арбы, попав ногой под колесо. Когда его принесли из операционной, он восхищенно хвалил Полякова:
— Какой дохтур! Ничего не слышал. Никакой боль. Ва!
Но через день во время перевязки обнаружил, что у него на ноге нет большого пальца. И тут поднялся страшный шум.
— Почему нет пальца? Какое имел право отнимать большой палец без согласования со мной? Жаловаться будим! — кричал больной на Полякова.
На другой день, когда и у него стала температура нормальной, то и на него Поляков перестал обращать внимание, если тот хотя бы и кричал что-то насчет своего пальца.
Я не знаю, надо ли рассказывать о тех, кто был со мной в палате. Может, это и не столь уж значительно, но жизнь есть жизнь, и если что-то мне запомнилось, если какие-то встречи запали в память, то, наверное, они мне нужны...
В палате нас было четверо. Рядом со мной лежал молодой азербайджанец, парнишка лет шестнадцати, носатый, с большими печальными глазами, удивительно добрый. К нему часто приходила мать и каждый раз оставляла порядочную корзину еды. Была в ней и тута, и мясо, завернутое в виноградные листья, и гранаты.

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)