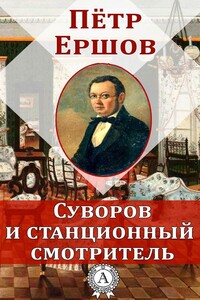Я приглашен для того, чтобы вместе с вами порадоваться за драматурга, который поддержал жизнь современного театра, растормошил его и до известной степени, как я полагаю, его обновил.
Наша удивительная деятельность — которую вовсе не так просто описать словами — прежде всего сделать возможными на сцене, вместе с актерами, пластически, развлекательно или трагично, отчужденно или успокоительно, идеи, видения, истории, предложенные драматургом, и все это, если режиссер действительно его понимает, с фантазией и волшебством. Не из скромности я говорю об этом разделении ролей драматурга и режиссера, а лишь потому, чтобы еще раз подчеркнуть: каким бы ни своенравным, спорным, быть может, болезненным эгоцентриком был режиссер — его бы не существовало без драматурга, того, кто придумывает пьесу. И еще больше: драматурги — это те люди, которые изменяют театр не только благодаря своим темам и историям, а благодаря их формам, их технике повествования (это и называется драматургией). Говорят или говорили о брехтовской постановке пьесы Шекспира; если спектакли объединяют в себе определенный климат эпохи заката, одиночество и клоунаду, говорят о сближении с Беккетом… Та или другая пьеса должна играться как Чехов, Пинтер или Ионеско. Климат, мир выдающихся драматургов врывается в постановки произведений других авторов: они влияют на точку зрения, которую можно иметь на другие пьесы.
Драматург сегодня — это не только редкая профессия, его постоянно поджидает опасность провала. Внезапно начинают восприниматься старомодными те, кто только что пережил времена блеска, славы, богатства, испытал все прочие прекрасные вещи в этом мире, если он вообще успел насладиться этим успехом. Дух времени по своей природе цикличен, это своего рода жестокая бабочка. Если во Франции сегодня в известных, задающих тон кругах говорят о театре Ионеско, то бывшие адепты морщат нос: Ионеско — это вчерашний день. Современный неореализм не выносит трупа, непрерывно растущего в квартире мелкого буржуа Берингера.
Слава Богу, мы переживаем Ренессансы, снова и снова открываются новые имена, как, например, Эден фон Хорват в 60-е годы. Но иногда это только снобизм, скука людей театра. Тогда мы говорим: великолепный Тенесси Уильямс в декорациях по Эдварду Хопперу — и мы уже в Голливуде.
Бото Штраус — феномен. Каждый год, скажем, каждый второй сезон со времени премьеры «Ипохондриков» (1972) появляется некто, кто говорит: финита, это больше никого не интересует… Однажды я даже слышал из уст некоей зрительницы: «Он нам надоел», как будто бы речь шла о государственном чиновнике — политике, который слишком долго задержался на своем посту.
Сейчас перед вами человек, быть может, даже реликт, который хочет вам доказать, что это не так… Бото Штраус такой диагностик бренности бытия, художник, который не строит никаких иллюзий насчет того, что может с ним случиться. Быть может, это тот одержимый пессимизм, который дает ему дистанцию, чтобы снова и снова создавать нечто неожиданное и поразительное. Каждую пьесу, которую он пишет, он называет своей последней, но двенадцать месяцев спустя я или другой режиссер (что приводит меня в бешенство) получает нового Штрауса. Георг Бюхнер был естествоиспытателем, Бото Штраус в другие времена тоже мог бы им быть. Его познания простираются далеко за пределы литературы и философии. Он в курсе состояния новейших исследований нейронов головного мозга, теориями времени и пространства он занимается в строгом секрете и с одержимостью.
Эти вещи вдохновляют его все больше, и кто думает, что только романтическая путаница, как в «Ипохондриках», или мифологические ссылки, как в «Парке», в «Колдвее» или в «Экскурсоводе» служат доминирующими образцами, тот заблуждается.
Когда мы говорили о пьесе «Время и комната», Бото Штраус упомянул о существенных для него исследованиях, которые он читал о связи времени и пространства, и протянул мне книгу Хорхе Луиса Борхеса (я думаю, одного из его любимых писателей), много занимавшегося теорией Френсиса Герберта Бредни; речь шла о понятии бегущего вспять времени.