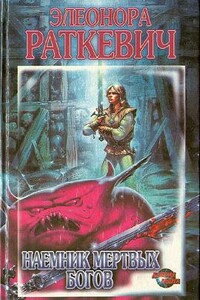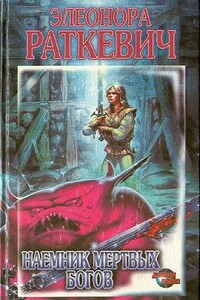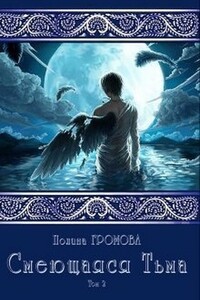Фарзой уронил лицо в ладони и заплакал.
Аэйт проснулся мгновенно, как от толчка, и сжал пальцы на рукояти кинжала. В темноте над ним нависала тень. Лежа неподвижно, он сквозь ресницы рассматривал белое пятно бельма на загорелом лице своего спутника. Если Бьярни сейчас набросится, он ударит его ножом в здоровый глаз. При этой мысли у Аэйта заломило челюсти, и он понял, что изо всех сил стискивает зубы.
Но одноглазый тихо прошептал:
— Аэйт… ты не спишь?
— Нет, — ответил Аэйт. — Что тебе?
— Там, впереди, что-то странное…
Аэйт сел. Его знобило, голова кружилась от слабости. Во рту остался противный привкус.
— Что странное? Куда ты ходил?
— А… возьми. — Косматый Бьярни сунул ему в руку горсть каких-то шариков. На ощупь они были упругими и шелковистыми.
— Что это? — Аэйт поднес их к глазам. Лесные орехи. Он посмотрел на них, как на чудо. — Где ты их нашел?
Бьярни неопределенно мотнул головой в сторону. Орехи были зеленые, неспелые и горькие на вкус. Аэйт жадно ел их вместе с мягкой скорлупой. Голод не прошел, но ему удалось убедить себя в том, что в животе стало теплее и мерзкий привкус во рту пропал. Проклятая старуха! Неужели он больше никогда не увидит нормального хлеба?
— Скоро рассвет, — проговорил Бьярни.
Аэйт посмотрел на небо. Никаких признаков близкого рассвета там не наблюдалось. Но в воздухе действительно появилась зябкая свежесть, и беспокойство проносилось над верхушками деревьев. Наверное, Бьярни прав. Аэйт поежился и с трудом зевнул.
— Ну что, пойдем? — сказал он. — Где ты видел это… странное?
Бьярни осторожно обернулся, вглядываясь в фиолетовый туман, клочьями висящий между деревьев.
— Там… Я нашел орешник. А за кустами, на темной поляне, что-то горело. — Он поежился. — Белый свет. И от него тянуло холодом.
— Шуточки фрау Имд, — проворчал Аэйт. — Пойдем, посмотрим, что еще она придумала. У нее, должно быть, изощренная фантазия.
— Как эта ведьма тебя ненавидит, — завистливо сказал Бьярни.
Его тон удивил Аэйта. Ненависть — своя и чужая — приносила ему, как правило, только усталость, вроде той, что наваливается после сражения или долгого пешего перехода по болотам.
— А ты что, хотел бы, чтобы тебя ненавидели?
Бьярни несколько раз утвердительно кивнул.
— Когда-то, в ТОМ моем прошлом, — сказал он своим звучным, низким голосом, — я купался в бессильной злобе моих врагов…
Он скрипнул зубами.
Аэйт задумчиво смотрел на него. Юноша не испытывал сейчас никакой ненависти к старому завоевателю. Он должен будет убить его, но злоба не играла здесь никакой роли. Он просто знал, что должен избавить свой мир от Косматого Бьярни, вот и все. Чувства тут не при чем.
Одноглазый словно прочитал его мысли.
— Ты все еще хочешь убить меня, Аэйт?
Спокойный тон одноглазого не понравился Аэйту. Как будто Бьярни знал заранее, каким будет ответ. Тряхнув головой, юноша сердито сказал:
— Не знаю.
Он и в самом деле этого не хотел. Их было всего двое в мертвом мире, слишком старом и пустом для того, чтобы можно было начать здесь новую жизнь. Злые глаза тролльши Имд преследовали их, выжидали, насмехались. Они то и дело мерещились Аэйту среди облаков тумана, в гнилой траве, между обгоревших стволов. Время здесь стояло на месте. Здесь невозможно было умереть, но и жить было тоже невозможно.
Аэйт вырос в молодом мире, под горячим солнцем Хорса, и война была там смертью, а не грудой безмолвных белых костей, и вода там была жизнью, а не горькой маслянистой жидкостью, не способной утолить жажду. Там, у него на родине, все было ясно и определенно, как смена времен года.
Аэйт страдал в духоте туманов, где расплывалось и теряло очертания все, в том числе и такие однозначные вещи, как вражда и дружба. И, к его ужасу, постепенно стирались всякие различия между ними. В мире Аэйта все было просто. Здесь все сместилось и перемешалось.
Косматый Бьярни предательски убил Вальхейма; он хотел искалечить Аэйта; он собирался украсть Золотого Лося. Когда они пустились вдвоем в этот путь по реке Элизабет, Бьярни был Аэйту врагом.
Но здесь Бьярни был единственным живым существом, кроме самого Аэйта. Как и маленький воин, старый пират испытывал страх и мучился от голода и жажды. Второе живое дыхание в безмолвном сыром тумане.