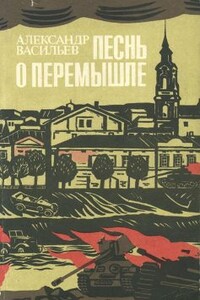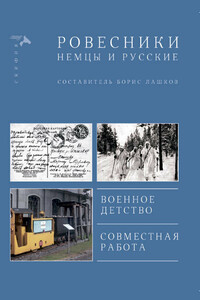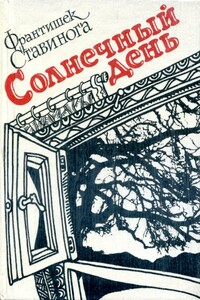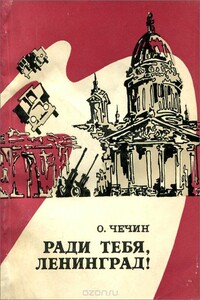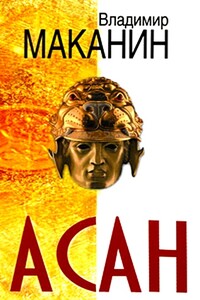Мне так и не удалось встретиться с ним. Но, получив от Патарыкина его адрес, я написал ему и вскоре получил ответ: объемистое письмо, напечатанное на машинке. К письму была приложена тщательно нарисованная от руки карта Перемышля, которой позавидовал бы любой топограф. А человек этот не был ни топографом, ни чертежником, к тому же рисовал он по памяти, много лет спустя после того, как последний раз побывал в этом городе.
Затем я получил от него еще одно письмо и фотографии людей, ставших когда-то, в то далекое страшное утро, первыми ополченцами войны. Среди этих фотографий была и его…
Я несколько раз перечитывал эти письма, вглядывался в фотографию еще совсем молодого человека в солдатской гимнастерке, длиннолицего, немного наивного, с открытыми голубыми глазами, и в моем сознании все ярче и ярче вставал его образ. Да, этот человек не мог поступить иначе, чем поступил тогда!
И я решил написать о нем все, что знал и что удалось восстановить по скупым и деловитым строчкам его письма.
______
Окончилось заседание бюро, люди разошлись, и в доме сразу стало тихо, будто все вымерло. А он все сидел за своим столом, перелистывая календарь, и переносил из прошлой недели на будущую нерешенные вопросы. Опять их было больше половины — серьезных, не очень серьезных и вовсе незначительных, некоторые из них путешествовали с листка на листок уже по нескольку раз. Времени явно не хватает, а тут еще, как назло, одного из секретарей пришлось отправить на учебу… Орленко перевернул «воскресный» листок и крупно, размашисто написал на обороте: «Состояние наглядной агитации». Этим вопросом секретарь горкома решил заняться в понедельник с утра.
Он посмотрел за окно и поморщился: прямо напротив него, через дорогу, на стене тома красовался намозоливший глаза большой плакат. Двое красноармейцев стояли возле зенитной пушки и любовались видом горящего самолета с желтыми кругами на крыльях. Под картиной было написано: «Не суй свое свиное рыло в наш советский огород!» Пусть эти плакаты висят где-нибудь за тысячу верст от границы, а здесь, в Перемышле, каждый знает, что это «липа». Немецкие самолеты, только не с не известными никому кругами на крыльях, а с самыми настоящими фашистскими крестами, то и дело кружат над нашей землей и, уж конечно, фотографируют все.
Нет, здесь, в Перемышле, надо снять эти плакаты к чертовой матери! Ничто не действует так разлагающе на умы, как разрыв между словом и делом. И если бы мы помнили об этом всегда…
Зазвонил телефон, и Орленко взял трубку.
— Петро Васильевич? Здоров! — зарокотал в ухо знакомый баритон. — Я так и знал, что ты еще заседаешь! Кто же назначает бюро на субботу? Бери пример с меня!
Говорил Мельников, секретарь сельского райкома, расположенного в этом же здании. Он был уже дома и, узнав, что Орленко в кабинете один, обрадовался.
— Вот хорошо… Выручай, брат! Я сегодня через час должен выступать на празднике в парке, там мои колхозники тоже будут, ну, а у меня сейчас, только что, жинка заболела, врача ждем… Ты уж, будь ласков, сходи за меня! Договорились?..
В трубке щелкнуло. «Хорош! — подумал Орленко. — Не дождался согласия и повесил трубку. Вот позвоню и откажусь…» Но тут же вспомнил недавнюю болезнь своей жены и примирительно махнул рукой. Ничего не поделаешь, придется выручить. Но что же все-таки он скажет народу? Праздник есть праздник. В таких случаях людям не до речей.
Он встал из-за стола и подошел к зеркалу. Перед ним в массивной резной раме из черного дерева — зеркало было старинное, из усадьбы какого-то австрийского князя — стоял еще молодой человек с усталыми, но веселыми голубыми глазами, в слегка помятой вышитой косоворотке с расстегнутым воротом. На высоком лбу блестела испарина. «Ну и пекло! Такого лета еще не было». Петр Васильевич вытер платком лицо, привычным, еще с армии, движением расправил складки на рубахе, застегнул воротник и вышел из кабинета. В вестибюле, отдав ключи дежурному, предупредил, что завтра, в воскресенье, он поедет в Красичин на рыбалку. Если будут звонить из Дрогобыча, из обкома, то пусть обращаются к секретарю Кущиенко, тот сидит дома и готовится к докладу…