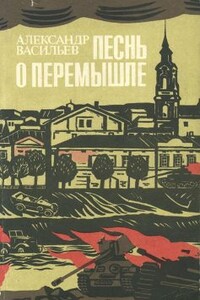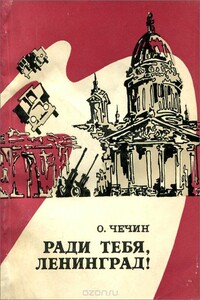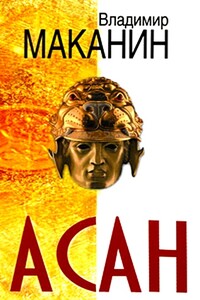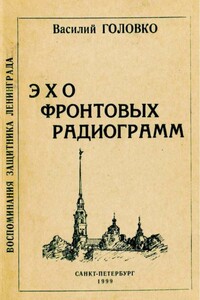И надо же было так случиться, что я со своим батальоном — а я тогда уже капитаном был — проходил как раз через Перемышль. Остановились мы там всего на несколько часов. Я сразу, конечно, побежал на то место, где была застава. Пришел, смотрю, здесь все по-новому, все словно чужое. По двору какие-то подозрительные типы ходят, меняют сало и табак на солдатские шмотки. А окна в бывшей казарме разбиты, щебенка до сих пор не убрана… Жилой дом, правда, уже подремонтировали и заселили. На двери нашей бывшей квартиры красуется табличка с фамилией какого-то доктора. Я позвонил. Дверь открыла девушка в белом передничке, горничная или кухарка, заулыбалась, но в квартиру не пригласила — хозяев нет дома и что, мол, пану офицеру здесь нужно? Я объяснил. Она руками развела и сказала, что, когда хозяева въехали сюда, здесь ничего не было… Я и удалился. Пошел бродить по городу в поисках наших старых знакомых из местного населения — никого не нашел. Одних немцы расстреляли во время оккупации, другие куда-то уехали… Потом я спустился к берегу, прошел по набережной. Река Сан текла, как прежде, поглотив все — и нашу былую славу, и трупы, и кровь…
Патарыкин умолкает. И я понимаю, что к обороне мы уже не вернемся. Все имеет свое начало и конец, особенно настроение… А завтра я уезжаю.
Но кто же мне расскажет о том, как было дальше? На мое счастье, у Патарыкина есть несколько адресов его бывших товарищей по Перемышлю, в том числе Королева и Орленко.
— От них вы еще многое узнаете, — говорит он.
— Ну что, закончили? — спрашивает Мария Емельяновна. И, не дождавшись ответа, начинает накрывать на стол. Александр Николаевич срывается с места и убегает. А через несколько минут возвращается с какими-то кульками и свертками, достает из кармана бутылку «горилки с перцем».
Мы обедаем, выпиваем, шутим. И все-таки нет-нет, а помянем прошлое. О своей теперешней работе Александр Николаевич говорит мало. Ну что особенного? Работает он диспетчером на молочном комбинате, работой в общем доволен, а так, чтобы было там что-то интересное, нельзя сказать: текучка, заботы, устаешь за смену. Зато отдыхаешь в лесу.
— Лес у нас в Дарнице замечательный, — светлея, говорит Александр Николаевич. — И река прекрасная — Днепр!
— А папа рыбу не ловит, — вдруг замечает Коля. — Он ее жалеет.
— Что ты ерунду говоришь! — Патарыкин, покраснев, поворачивается ко мне, как бы ища сочувствия. — Ох, и дети пошли, особенно этот пострел! Нет чтобы с ребятами поиграть, как мы, бывало. Все возле меня да возле меня, как хвостик. Кроме войны, ни о чем слушать не хочет… И еще чего-то выдумывает.
— Не выдумываю, а правду говорю! — спокойно упорствует Коля. — А ты сам чему меня учишь?
— Ну ладно, ладно, — сдается отец. — Только настоящий пограничник где, я тебе сказал, свои мысли держит? То-то!
Я прощаюсь, крепко жму руку славной Марии Емельяновне и Коле (девушек дома нет, они ушли на танцы), а Александр Николаевич провожает меня до такси.
Машина трогается, но вдруг я замечаю под фонарем знакомую фигуру. Это соседка Патарыкиных со своей неизменной сумкой ждет автобуса. Я прошу шофера остановиться и, открыв дверцу, спрашиваю:
— Вам в Киев?
— Конечно, в Киев! — она радостно забирается в такси. — Я к дочке еду. Вот пирожков ей с мужем напекла… А вы от Патарыкиных? Ах, какая жалость, что у меня времени нынче не было к ним зайти, вот бы мы уж поговорили!.. А вам, простите, зачем Александр Николаевич понадобился?
Приходится ответить.
— Что? — восклицает соседка. — Патарыкин — герой? Да я с ними пять лет вместе живу и работаю вместе — никогда не слышала. Быть этого не может! Почему же в таком случае недавно, в День Победы, когда у нас всех бывших военных награждали, его даже не упомянули? А какому-то Жорке — он тоже в нашем доме живет — именные часы дали. Так этот Жорка, говорят, в войну на Подоле шинок держал.
Соседка еще долго охает и сокрушается, но уже в Киеве, прощаясь со мной, говорит:
— А про Александра Николаевича вы обязательно напишите. Все как есть! А то ведь кто о нем знает? Живет человек и живет. А почему? Потому, что уж больно он тихий. Не современный, не боевой человек…