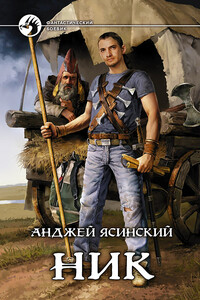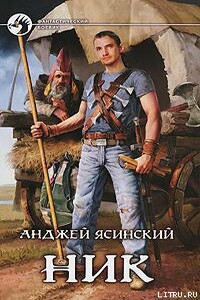- Фарфлюхтер криег.
Велел подождать и ушел. Через несколько минут он вернулся переодетым, и мы вместе пошли в немецкий госпиталь. Bо дворе госпиталя была спортивная площадка, на которой двое мужчин в спортивней форме играли в теннис. Сопровождающий меня немец подошел к одному из них. Они о чем-то поговорили и меня отвели в здание самого госпиталя, в комнату, напоминающую чего-то вроде процедурного кабинета. Вскоре туда же вошел один из игравших в теннис. Он осмотрел мою руку, кому-то отдал распоряжение и вышел. Через некоторое время снова вошел, но уже в белом халате. Меня положили на операционный стол, сделали какой-то укол, дали наркоз и заставили считать. Помню, как я досчитал до восемнадцати, после чего погрузился в сон. Проснулся утром в палате. Рядом со мной на кроватях лежало еще человек десять таких же как я больных или раненых. Рука была перевязана. На соседней кровати сидел мужчина лет тридцати, что-то говорил мне и дружелюбно улыбался. Между кроватями ходила русская медсестра в белом халате и раздавала лекарства. Раненые называли ее словом 'сани'. Наверное, этим словом немцы называют медсестер.
Все выглядело мирно, по-домашнему. Раненые вели себя спокойно. Никто демонстративно, на показ, не афишировал тяжести своих ран. В советских госпиталях некоторые любили покапризничать и, как бы гордясь тяжестью своего ранения, устраивали подобие истерии. Их, как детей, уговаривали, и они успокаивались. Но так делали немногие, больше из категории пролетариев. Здесь все вели себя спокойно. Некоторые читали газеты, другие тихо беседовали или молча лежали. Неожиданно попав в новую обстановку, я напряженно вспоминал, что со мной произошло и происходит сейчас. Молча лежал и пытался сориентироваться. Мой сосед по кровати немец, заметив, что я проснулся, что-то говорил мне вежливо и не навязчиво. Улыбался и проявлял ко мне всяческое внимание. Он сказал, что ночь провел я очень неспокойно. Бредил, метался. Позже мы нашли взаимопонимание, часто и подолгу беседовали на разные темы. Я не скажу, что мы стали с ним друзьями. Но его отношение ко мне, в русском или советском понимании, выглядело по-товарищески. Человек он был общительный, потому и говорил больше он. Наверное, скучал по родному дому, и разговоры его, как у большинства немцев, велись вокруг родного дома, семьи, климата на родине, и еще о многих разных разностях, близких его сердцу. Я молча лежал на постели, слушал и внимательно вникал в разговорную речь. Когда я чего-то не понимал, он доставал немецко-русский словарь и, смеясь, показывал нужное слово
Вскоре исчезли мои страхи и сомнения. Позабылось, кто есть я, где и с кем нахожусь. Хотя про себя всегда помнил разницу между нами. Кроме немцев в палате лежали немолодой венгр и бывший советский воин, удмурт по национальности. Венгр немцами почему-то был сильно не доволен, всегда ругал их и обещал им грозную расплату за все их грехи тяжкие и за свои собственные обиды. Чего уж они ему не угодили! Он не говорил. Удмурт тоже был не молод. Было ему лет под сорок, но тогда я сам был молод, и такие дяди казались мне уже старыми. В противоположность венгру, он о немцах отзывался хорошо. Зато большевикам посылал на их головы божьи кары и еще сильно ругал НКВД. Он рассказал, как в 37-м году его арестовали, посадили в тюрьму и сильно издевались. За что его посадили, он толком и сам не знал. Об этом он рассказывал такие страшные подробности, что я усомнился в правдивости его слов. Такое иногда приходилась читать в книгах об инквизиции, кострах, дыбах, и еще о чем-то страшном. По его словам, самое страшное, что пришлось ему испробовать, это когда тебя крепко свяжут, потом в нос закачивают чего-то жгучее, жидкость попадает в рот, в легкие, человек задыхается, а ему говорили:
- Скажешь, или прибавить?
Он ничего не знал, чего от него требовали, потому пытки продолжались в разных вариантах. Его кормили соленой рыбой, и по несколько дней не давал воды. Потом снова спрашивали:
- Скажешь, или будешь молчать? Если скажешь, сразу напьешься.
Перед глазами держали стакан с водой и говорили: