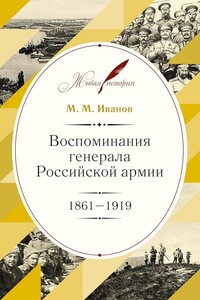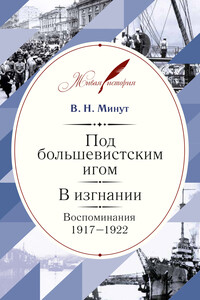Эта трудная работа, требовавшая исключительной настойчивости, была выполнена не столько Активным комитетом, сколько советом старых активистов, проживавших в Стокгольме еще со времен генерал-адъютанта Бобрикова, так называемым «De aldres rad», то есть советом старейшин, несшим роль совещательного органа и обладавшим в Стокгольме старинными связями.
Осенью 1915 года по выбору старейшин в Стокгольме ездили в Берлин для ходатайства перед военными и гражданскими властями о развитии дела барон Адольф фон Бунсдорф и профессор Рафаэль Эрих.
Много перенесший в прошлом барон Бунсдорф в общем играл пассивную роль и нужен был для возглавления депутации благодаря носимому им титулу.
Окончательно Активный комитет сформировался осенью 1915 года в период наших крупных неудач на фронте. В состав его вошли представители всех партий в Финляндии: от старофиннов – доктор Эйно Суолахти, от младо-финнов – Хейкки Ренваль, шведский народный – Отто Окессон, от аграриев – доктор Сивен, от активистов и союза «Войма» – А. В. Нюлландер, от Александровского университета – магистры Доннер и Аппельберг[2] и от упраздненных финских войск – Гарольд Окерман (ротмистр). Совет же старейшин составили бывший сенатор Эльт, статский советник Гриппенберг, профессор Вестермарк, доктор Виктор Цильякус, бывший сенатор Гуго Раутапяя, профессор Рафаэль Эрих, директор Самуил Сарио, О. Стенрут и барон А. фон Бунсдорф.
Особый интерес и отзывчивость проявили аграрии.
Недоверие немцев к рекрутам вскоре опять проявилось. Строгая дисциплина, полнейшая изолированность батальона не только от родины, но и от кого бы то ни было из местного населения, так как отпуска и отлучки не были сначала совершенно разрешаемы, естественно, породили недовольных.
Кормили батальон хотя и сытно, но желудок рекрута не привык к той жизни, которая выдавалась, кроме того, ни у кого не было денег. Началось глухое брожение, вызвавшее намерение немецкого командования расформировать батальон. Активному комитету стоило громадных усилий сохранить батальон. Пришлось обратиться к великому врагу России и всего славянства доктору Павлу Рорбаху (уроженец города Риги), тому самому, который впоследствии подал мысль разложить страну при помощи большевизма.
Рорбах пользовался огромным влиянием в Берлинских политических кругах. Его вмешательство вызвало известную речь канцлера фон Бетмана Хольвега на заседании рейхстага 5 апреля 1916 года в защиту финляндцев. Используя последнее средство сохранения батальона, активисты ввиду недостатка у германцев живой силы должны были согласиться на отправку своих земляков на фронт под Ригу и доказать, с одной стороны, свою преданность Германии в боях с русскими, а с другой – усугубить ту ответственность перед Россией, которая по отношению к ним теперь возникала как к лицам, перешедшим на службу к неприятелю.
31 мая 1916 года егеря выступили на фронт. В тот же день батальон принял участие в параде, принятом императором Вильгельмом II. Вскоре после прихода батальона на фронт трем егерям – Туоминену, Риссинену и Викстрену – удалось перебежать к русским и просить о помиловании, изъявив свое полное раскаяние.
В общем батальон пробыл на фронте недолго, так как командующий 8-й германской армией, почему-то с самого начала предубежденный против финляндцев, резко отрицательно высказался против дальнейшего пребывания на фронте и в начале августа 1916 года. Эту часть увели в резерв сперва на побережье Рижского залива, а потом в г. Либаву.
Во время июльско боев под Шмерденом батальон потерял нескольких человек убитыми и ранеными.
Увод батальона в резерв был несомненно желателен для Комитета. Между тем брожение в батальоне опять вспыхнуло. Главной причиной, конечно, была тоска по родине, обманутость ожиданий быстрого возвращения домой (контракты с вербовщиками подписывались на полгода), безденежье и пр.
Кто был завербован в батальон? Добровольно пошли лишь идейные люди – в большинстве это были люди с высшим образованием. Они, конечно, не роптали, но их было меньше половины, допустим даже, что в тот момент была и половина, значит, другая половина приходилась на крестьян или безработных батраков. Наибольший процент людей второй категории дало население Эстерботнии и приходов Лаппо и Хермч, где население всегда враждебно относилось к русским, к чему, может быть, и были основания.