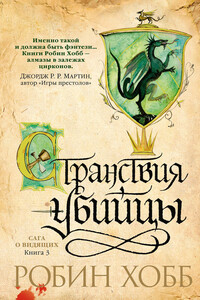Мария этим утешилась, хотя византийская сложность происходящего ее все-таки беспокоила. Почему они все так кокетничают? Мужчина скрывал свое прошлое и даже имя сохранил в секрете. Но ведь не может быть такого, чтобы местные обычаи требовали не называть своего имени?
– Как его зовут?
– Терпение, моя дорогая. Он знаменит и славится любовью к конфиденциальности, хотя, уверен, в ближайшем будущем откроется вам в большей степени.
Обо всем этом Мария рассказала Огьеру утром, пока позировала.
А на следующее утро, которое оказалось последней встречей с нею, Мария вернулась с новыми историями о таинственном аристократе, которого назвала Графом.
– Я его так называю, потому что это его раздражает. И я не вижу причин для обходительности с таким самодовольным молодым человеком.
Она побывала на другом приеме, более эксклюзивном, и Граф вновь отнесся к ней с интересом, почти все время уделив обмену остротами, поддразнивая ее, подробно объясняя, чем та или иная разновидность шерри лучше другой. Гостей раздражала ее монополия. Граф, не обращая внимания на гримасы прочих молодых леди, настоял, чтобы она сыграла им другую песню, настоял, чтобы она вышла с ним на веранду, и, наконец, настоял, чтобы она призналась ему в том, чего хочет больше всего на свете.
Окольными путями они все-таки пришли к главному! Мария с облегчением сказала:
– Я потеряла мужа, и, чтобы его найти, мне требуется ваша помощь.
Граф хлопнул ладонями, затянутыми в тонкие перчатки, и немедленно согласился:
– Я найду вашего мужа.
– О, это просто чудесно! Чудесно! Я уже начала думать… – она осеклась, чтобы не дать волю сентиментальности. Их руки – он накрывал ее ладони своими, как устрица жемчужину, – радостно вздрогнули.
К величайшей радости Марии, Граф пообещал разыскать ее мужа к следующему вечеру.
– Мистер Огьер, – сказала Мария в тот последний день, который они провели в обществе друг друга, – сегодня вечером мы с Томом воссоединимся, если Граф обладает хоть половиной влияния, на которое претендует. – Она, снова одетая в красивое бледно-голубое платье, обошла мольберт Огьера, чтобы увидеть плоды недельного труда. Художник объявил, что картина готова, хотя он чувствовал, что надо еще повозиться над листьями орхидеи, которые поднимались над бледным плечом. Она немного изучила себя и расхохоталась.
Огьер в понятном смятении съежился, словно получил пощечину.
– Нет-нет, это прекрасно. Шедевр! Я лишь подумала, что скажет Том, когда я покажу, на что потратила перерыв в нашем медовом месяце. А я ему покажу, я должна! – Она снова рассмеялась. – Пожалуйста, позвольте привести его завтра.
Огьер занервничал; вероятность того, что женатый мужчина увидит портрет раздетой жены, не приходила ему в голову.
– Надеюсь, у него такое же чувство юмора, как у вас.
– Однозначно нет, но он самый разумный человек на свете. Он примет это как факт, странный и сложный факт, но уж какой есть. Он поймет, что это занятие помогло мне выжить, пока мы не воссоединились.
– Тогда я с нетерпением жду знакомства, – сказал Огьер, собираясь с духом.
Мария стащила художника со стула и энергично обняла, как сестра. От довольной улыбки ее щеки порозовели.
– Вы меня спасли. Я этого никогда не забуду. И это чудесная картина. Я бы хотела видеть весь мир таким. У вас такой романтический взгляд.
Мария не вернулась на следующее утро, и Огьер воспринял это как хороший знак: возможно, она воссоединилась с суженым. Естественно, утром лучше думать о чем-нибудь хорошем, не о том, как открыть ее мужу – и себе – истинные средства ее выживания. Вряд ли можно винить ее. Тем не менее, Огьер не мог не чувствовать легкого разочарования. Ее компания освобождала, воодушевляла. Ему с ней было хорошо. Хотя, изучая изображенную на холсте фигуру, он вынужден был признать, что результат оказался небезупречен. Он слишком увлекся ее характером и в итоге нарисовал идеал, а не женщину. Было в этом нечто поэтичное: она позировала без притворства, а он, сам того не желая, выставил ее тщеславной.
Огьер размышлял, стоит ли ему переделать картину по памяти – мягко говоря, рискованная перспектива, – когда вдруг раздумья прервал молодой бородатый мужчина, ворвавшийся в жилище на крыше.