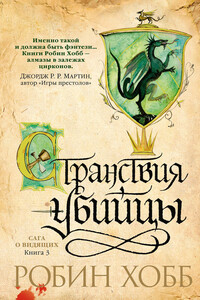Сенлин поразмыслил над сказанным:
– Полагаю, в этом есть смысл. Но я предпочитаю историю, которую ты рассказала о своем прошлом, банальной пьесе, из которой мы сбежали. Мне кажется, твоя жизнь интереснее.
– Значит, в моем рассказе были преувеличения.
Они помолчали, готовясь к очередному резкому порыву ветра. Сенлин стиснул зубы и зажмурился, ожидая, пока тот утихнет. Когда все опять успокоилось, Эдит продолжила, и ее голос сделался ниже:
– Я знаю, ты посреди собственного бардака. – Она снова уткнулась ему в грудь и продолжила: – Надеюсь, ты найдешь жену. Я правда надеюсь. Я думаю, ты сможешь. Если ты это переживешь, остальное будет легко. – Эдит остановилась, кашлянула, и Сенлин понял: она пытается не расплакаться. – Но у меня есть к тебе просьба. Я знаю, что не имею права просить и ты не обязан соглашаться…
– Не надо речей, – сказал он, пытаясь ее успокоить и удержать от срыва. – Просто попроси.
– Не бросай меня, пока все не закончится. Я смогу с этим справиться. Мне просто нужно немного поддержки.
Услышав страх в ее голосе, он сказал, что согласен, конечно согласен. Но поспешил добавить, что до подобного не дойдет. Регистратор обязан смягчиться.
На следующее утро невыносимая улыбка Сефа снова возникла в проеме люка, и он повторил предыдущий вердикт. Эдит будет изгнана. Она никогда не сможет вернуться. Сеф, старательно избегая любого упоминания о клеймении или телесных повреждениях, называл процесс, которому собирались подвергнуть Эдит, «остракизмом». По его словам, это была чуть ли не самая благоприятная вещь в мире, и он заверил, что больше ничего нельзя сделать. Альтернативы и апелляции исчерпаны.
Сенлин, который переваривал случившееся всю ночь, подготовил сердитую отповедь.
– Вы что, утратили последние остатки совести? – спросил он. – Не прикрывайтесь долгом и начальством. Ведите себя по-человечески! Не притворяйтесь, будто жестокость оправданна только потому, что за ней стоят деспотичная политика и жестокий бюрократизм. Не нужна апелляция, чтобы подтвердить известный факт. Нельзя калечить человека за то, что он не разжег огонь в камине. Ваша собственная совесть кричит, запертая в вашей же реберной клетке: «Отпустите ее!» – В его голосе звучал незнакомый доселе пыл, и в конце тирады он обнаружил, что дрожит от ярости.
Сеф помахал платочком перед лицом, словно прогоняя мошку:
– Ну-ну. Прекрасная речь.
Странный ответ ошеломил Сенлина. Клерк говорил искренне, пусть и с оттенком скуки.
– Спасибо.
– Но в конечном счете, это не вопрос совести, честное слово; это вопрос стабильности, – сказал Сеф педантичным тоном и, не давая Сенлину возразить, продолжил: – Если закон податлив, мистер Сенлин, он гнется и подстраивается под человека – и тогда человек начинает упорствовать в своих пороках. Закон существует для того, чтобы придавать форму человеческим идеалам. Если подумать, разве милосердие не служит нечестивым за счет закона?
Сенлин был готов протянуть руку через люк и задушить самодовольного клерка, который гладил завитые усики, но тут вмешалась Эдит и оттащила его от двери.
– Я согласна, – сказала она. – Покончим с этим.
– Нет! – вскричал Сенлин, отталкивая ее от окошка. – Почему ты сдаешься?
– Потому что они могут держать нас здесь вечно, а я не могу тут оставаться. Хочешь вот так умереть? Я не хочу. Я хочу умереть в далеком будущем, обрабатывая поле на собственной ферме, стоя ногами на земле. А ты… тебе надо найти камин и встать рядом. – Последнее она произнесла с грустной, но решительной улыбкой.
Второй довод Сенлин проглотил. Как бы ни была ненавистна мысль о том, чтобы поддаться несправедливости, он не мог спорить с Эдит. Он обещал оказать моральную поддержку. Пора выполнять обязательства.
– На самом деле процесс остракизма довольно гуманный, – сказал Сеф так, словно они делали из мухи слона. – На кого-то даже снисходит откровение.
Сенлин стиснул зубы, сдерживая упрек.
Когда они приняли вердикт, их снова пустили в коридор. Спины болели, ноги подгибались. Они потянулись и стали разминаться, чтобы кровь снова зациркулировала в ногах. Сенлин почувствовал себя так, словно выполз на берег из бурного моря. Во второй раз за прошедшие сутки он ощутил недоверчивую благодарность выжившего.