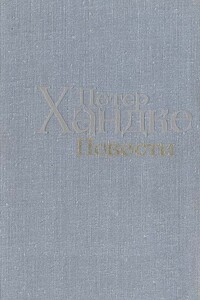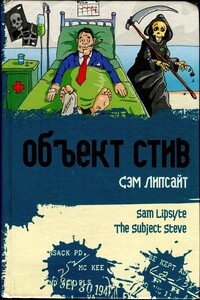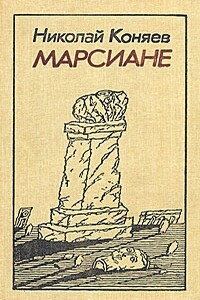Она собралась. Ее собрали эти картинки, по большей части смутные силуэты, именно они, и только они. Она не вскочила. Она видит себя встающей. Она стоит. Она дает себе возможность посмотреть, как будет идти. Она идет. Она пошла. Как она вообще оказалась на земле? Она не помнила. Она попрощалась и с этим местом, особенным местом, и сделала это, по своему обыкновению, не явно, лишь еле заметно, тайно шевельнув рукой. Потом она подобрала валявшуюся ветку орешника – судя по всему, и в новых городах орешник постригают – и забросила ее, левой рукой, куда-то далеко-далеко, словно отправляя ее вперед себя по дороге, по которой ей предстояло идти, и обнаружила при этом, что в ее левой руке силы не меньше, чем в правой.
Наконец-то можно идти прямо, наконец-то можно идти четко на север. День склонялся к вечеру, и у нее под ногами ложились по-летнему короткие тени. К северу от Понтуаза, в Они, на единственном участке Вексенского плато, имевшем ясные очертания долины, той самой долины, по которой протекала речушка под названием Вион, в том месте, где проезжая дорога переходила в тропинку, что вела по заливным лугам вдоль Виона, к ней присоседилась собака, приблудившаяся невесть почему, черная, не большая и не маленькая, не такая и не эдакая, без особых примет, которые ей что-нибудь говорили – в собаках она не разбиралась. Собака не была бездомной, она относилась к дому в той части Они, которая находилась рядом со старым зданием церковного совета, рядом с еще более старой церковью, единственной, расположенной почти прямо на берегу реки, в долине Виона. Пес выбежал к ней из открытой калитки. Она ничего никогда не боялась, в том числе и собак. Но всякий раз, когда к ней приближалось какое-нибудь животное, не важно какого рода, в памяти всплывало то, что отец рассказывал ей, ребенку, о матери, на которую, когда она была беременной, напал дог «или доберман», – отец тоже в собаках не разбирался, – «во всяком случае, не лабрадор», и мать так испугалась, что это чуть не привело к выкидышу: и всякий раз воровка фруктов не убегала и не отступала ни на шаг, но замирала на месте, как будто против своей воли, и стояла неподвижно, даже не думая о том, чтобы, как это часто естественным образом делают другие, протянуть руку к собаке, особенно в тех случаях, когда собака приближалась к ней медленно, подчеркнуто медленно, словно крадучись.
Вот и сейчас она замерла, держа в поле зрения приближающуюся к ней собаку. Но именно потому, что никто не сказал: «Не бойтесь, она не кусается», – она почти сразу спокойно двинулась дальше. А пес как ни в чем не бывало потрусил рядом с ней, после того как обнюхал ее, спереди, обследовав коленки (а не сзади, ткнувшись носом в подколенные впадины). Он был при ней, он был ей придан. Там, где дорога и железнодорожные пути отворачивают в сторону и начинается тропинка по лугам, он наверняка развернется и побежит домой, в свой сад в Они.
Но вместо того чтобы развернуться у начала тропинки, пес даже обогнал воровку фруктов и побежал вперед, при этом его жетон, болтавшийся на ошейнике, стал брякать значительно сильнее, потому что здесь, среди тополей, ивовых деревьев и ольхи, картина звуков неожиданно стала другой, не такой, как среди домов, на проезжей дороге или на железнодорожных путях. И на каждом повороте сначала дороги, а потом тропинки собака останавливалась и ждала ее. Временами она отставала, а когда воровка фруктов оборачивалась, то обнаруживала собаку стоящей на обочине, без движения, словно прощавшуюся с ней, готовую наконец повернуть назад; но всякий раз через какое-то время за спиной вновь раздавалось приближающееся треньканье собачьих «цимбал» и пес снова обгонял ее.
Не то чтобы она хотела избавиться от этой собаки. Но она думала, что в интересах животного ему лучше все же вернуться домой. Но как это втолковать? До сих пор она не сказала ему ни единого слова. Если бы она сделала это, пес еще больше привязался бы к ней. Одного только звучания ее голоса – она не могла его изменить, она никогда не говорила никаким другим голосом, кроме того, что был дан ей от природы, и была не в состоянии кричать, – хватило бы на то, чтобы сделать их двоих, чего доброго, неразлучными.