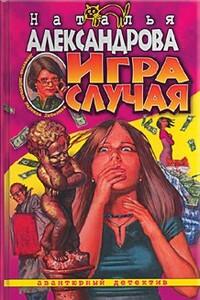– Верно говоришь. Вот, казалось бы, все русские – и мы с тобой, и мужики эти самые, которые имение грабили, а по сути сказать – что у нас с ними общего? Речи разные – мы даже когда не по-французски говорили, а по-русски, и то простой мужик таких слов не знает, он все больше по матушке выражается… Песни у нас с ними разные, обычаи разные, весь уклад жизни не такой. Мы господа, а они – мужики, и никогда друг друга нам не понять… Литература наша… Разве Пушкин да Гоголь для них писали? – Княгиня внезапно замолчала, приложив руку к груди.
– Я позову кого-нибудь! – вскочил Борис.
– Не нужно. Подай мне микстуру вон, на столике… Ну вот что, – начала она, выпив воды и отдышавшись, – мне долго разговаривать некогда. Так что слушай внимательно и не перебивай. Картину эту отдаю я тебе. – Она нетерпеливо махнула рукой на Бориса, сделавшего возмущенный жест. – Сиди, слушай, потом спорить будешь. Так вот, отдаю тебе картину с одним условием: чтобы ты ее там, за границей, продал, а деньги пустил на добрые дела. И не генералам на их амбиции, а обычным людям в помощь, как вот ты, например, добрым да порядочным, которые честно воевали и будут потом на чужбине скитаться, больные да нищие. Чует мое сердце, хлебнут они еще горя.
– Да я, Анна Евлампиевна, и за границу-то пока не собираюсь.
– Рано или поздно все там будете, кто выживет, – вздохнула княгиня.
Взгляд ее устремился вдаль, и Борис вдруг уверовал, что и правда перед смертью видит она то, что случится вскоре с ними всеми и со всей Россией.
– А еще помогать будешь тем беженцам, кого через всю Россию гнали красные да махновцы, у кого последнее отняли, только жизнь случайно оставили. Вот я, столбовая дворянка, княгиня, богатство наше не мной нажито. Много поколений родни так жили. Все приличные люди – не промотали, в карты не проигрывались… Сохранили, значит, для мужичка… – горько проговорила княгиня. – А твой отец, насколько я знаю, всю жизнь работал, собственным трудом положения достиг, профессором стал…
– В технологическом институте, – подсказал Борис.
– И что было-то у вас, какое такое богатство? – продолжала княгиня. – Квартира да что на себе. Драгоценностей-то у матери много ли?
– Что было – два колечка да брошка бриллиантовая – все еще в восемнадцатом проели, – угрюмо пробормотал Борис.
– Вот, а по их, по-мужицкому, получается, что буржуи вы, кровь из народа сосали, – зло выговорила княгиня.
– Анна Евлампиевна, вы откуда такие слова знаете? – поразился Борис.
– Наслушалась уж, – вздохнула она.
Борис вспомнил, что почти то же самое говорил ему недавно пьяный поручик Осоргин.
– Вот таким людям там и помогай, – продолжала княгиня. – Они ни в чем не виноваты, если и были у них какие грехи, то заранее они их искупили. И смотри: дело тебе поручила важное, так что уж сделай одолжение, под пули не подставляйся даром, а картину при первом случае постарайся за границу переправить. Есть у тебя возможность-то?
Борис вспомнил о полковнике Горецком и кивнул.
– Теперь иди, картину спрячь, чтоб никто про это не знал. Сам знаешь, время нынче страшное, береженого Бог бережет. Завтра Варвару пришли, посмотреть на нее хочу, помнится, была она на Шурочку похожа… – И старуха утомленно откинулась на подушки.
– Спасибо, Анна Евлампиевна, что доверие такое мне оказываете, – пробормотал Борис.
– Иди-иди. – Она махнула рукой. – Уж настолько-то я в людях разбираюсь, долгую жизнь прожила, благородного да честного с первого взгляда отличу.
Борис снова поцеловал старческую руку и вышел, думая о том, что напоследок сказала княгиня. Она в него верила, это, конечно, приятно, но что теперь делать с картиной? Как сохранить этакую ценность в таком сумбуре?
Борис очень бы обеспокоился, если бы узнал, что и этому его разговору с княгиней имелся свидетель, вернее, свидетельница. Прелестная Софи услышала голос Бориса еще на лестнице – лакей Федор имел гулкий бас и говорил всегда громко. Услышав, что гость привез новости из «Дубовой рощи», Софи навострила очаровательные ушки и, уверившись, что Бориса допустили к княгине, выскочила на лестницу. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что Федор ушел подметать двор перед крыльцом, а Агафья спустилась вниз на хозяйскую половину попить чайку и посплетничать, Софья Павловна торопясь пробежала гостиную, затем еще одну небольшую комнатку, которая служила княгине не то кабинетом, не то будуаром, и остановилась у дверей спальни. Борис, входя, плотно закрыл за собой довольно-таки солидную дверь, так что когда Софи приникла к ней ухом, она услышала только неразборчивое бормотание. Соблазн приоткрыть дверь был очень велик, но Софи недаром была женщиной осторожной и благоразумной: она сдержала порыв, потому что шестым чувством поняла, насколько важен разговор, происходящий в спальне, а следовательно, Борис будет начеку и совершенно правильно всполошится, если почувствует в комнате легкий сквознячок. В первый момент Софи почувствовала сильную досаду от того, что старуха разболелась и принимает теперь визитеров прямо в спальне, а не в гостиной – там очень удобно было подслушивать, стоя в маленьком темном коридорчике у двери, спрятавшись за портьерой. «Но за неимением гербовой пишем на простой», – мысленно произнесла Софи, мобилизовала все чувства и приникла ухом к двери. Понемногу она стала различать в неясном бормотании отдельные слова. Она никак не отреагировала, когда услышала слова Бориса о геройской смерти полковника Азарова, она сделала пренебрежительную гримаску, когда услышала о найденной сестре Варе, но когда она уловила, что речь в разговоре пошла о «Дубовой роще», то лицо ее сразу же волшебно изменилось. Тот, кто сумел бы заглянуть ей в лицо в данный момент, увидел бы не миловидную молодую женщину, нет, в лице ее проступили жесткие, решительные черты, и даже покойный полковник Азаров, если бы был жив и находился рядом с ней, не узнал бы своей возлюбленной.