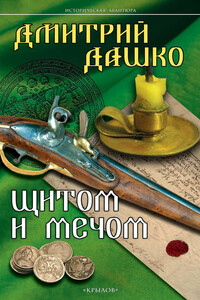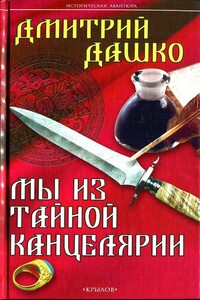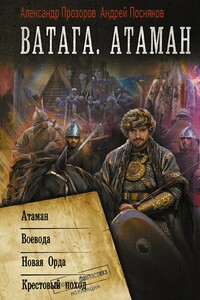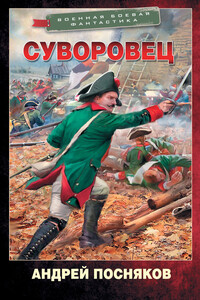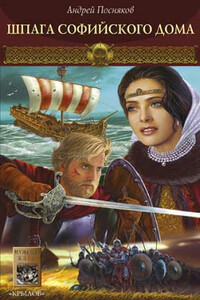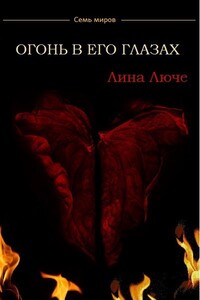— Эх, жаль, маловато хлебушка, — посетовал отец Меркуш, зевнул, перекрестив рот, и продолжал с улыбкой: — Однако, спасибо Господу, и рыба есть, и бражка — не умрем, перезимуем! За орехами вверх по реке съездим!
— Правильно, отче! — кивнул Олег Иваныч. — Вот за это и выпьем! Ну, вздрогнули…
Выпив, запели песни. Начали Ульянка с Софьей — у них, в отличие от Олега Иваныча, и слух был, и голоса, да еще какие! А уж песня была:
Я пью до дна
За тех, кто в море.
За тех, кого любит волна…
Макаревича песня, Олега Иваныча по прошлой еще жизни любимая. Слова-то он хорошо помнил, давно еще научил Софью, вот с мотивом, правда, вышло похуже. Ну, да зато звонко! Такую песню и послушать приятно и самому подпеть голосом диким — не удержался Олег Иваныч, запел, хоть слуха отродясь не имел, сначала осторожно подтягивал, а затем уж и во весь голос — перестал стесняться:
За тех, кому повезет,
И если цель одна
И в радости, и в горе,
То тот, кто не струсил
И весел не бросил,
Тот землю свою найдет!
«Тот землю свою найдет!» А ведь найдут, отыщут страны незнаемые! Пока ведь везло, правда, к везению этому, уж какие труды прилагались. Раскраснелись гости, в пляс пустились — отец Меркуш гусли принес — уж так наяривал, словно и не гусли у него, а какой-нибудь «Фендер Стратокастер», как у Ричи Блэкмора, гитариста «Дип Перпл». Впрочем, куда там Блэкмору до бывшего пономаря! Олег Иваныч и не знал раньше, что он так играть умеет. До упаду плясали. Лишь далеко за полночь утомились гости, ушли. Олег Иваныч хотел было их проводить, да махнул рукой — ну куда провожать-то? Все ведь тут же жили, на «Святой Софии»: Геронтий с Ваней в носовой надстройке, а Ульянка с Гришей — так и совсем рядом, в корме. Один отец Меркуш при церкви в избе ночевал, ну, тут рядом было, из окон видать…
В каюте было жарко, душно даже — горела жаровня. Олег Иваныч подошел к Софье, обнял за талию. Та посмотрела на него своими карими, с золотистыми искорками, глазами, улыбнулась озорно. Сняла с головы золотой обруч — водопадом цвета спелой пшеницы рассыпались по плечам волосы. Погладив мужа по левой щеке, боярыня развязала застежку лифа. Губы супругов слились в долгом затяжном поцелуе. Упал на скамью отороченный горностаем летник. Шурша, съехало вниз тяжелое бархатное платье. Подхватив на руки обнаженную женщину, Олег Иваныч медленно отнес ее на широкое ложе, покрытое шкурой медведя, на ходу целуя высокую грудь… За стенкой тем же самым занимались Гриша с Ульянкой, только, наверное, более энергично — слышались иногда их страстные крики.
Далеко над унылой, затянутой твердым серебристым настом тундрой, изредка поросшей мелким корявым кустарником, разносилась такая же грустная тягучая песня. На мотив — грустная, но слова-то в ней были как раз веселые, скабрезные даже — такую песню в стойбище петь: всему народу оскорбленье. О неверных женах пелось в той песне, о злых вислогрудых шаманках, что раздевались донага во время камлания, поливая себя свежей оленьей кровью, о заговорах, что приманивают чужих мужей, и прочих тому подобных вещах, в приличном обществе не принятых. Пел ту песню хитрый эвенк Иттымат — в расшитой бисером малице, морда от ветра оленьим жиром обмазана, глаза — две щелочки, ну до того узкие — непонятно, как он вообще сквозь них видит. Быстро ехал Иттымат, погоняя олешек длинным шестом-хореем, иногда, чтобы согреться, и сам спрыгивал, бежал рядом с нартами. Торопился. Слухи по тундре быстро разносятся, хоть, кажется, и нет в ней никого. Однако где-где, а и пройдут охотники на зверя морского, или с последними оленями кто на юг откочует. О том, что появился в верховьях Индигирки-реки неведомый пришлый народ, белый, на больших байдарах, Иттымат узнал случайно — от старого охотника Итинги. Глуп был Итинги — большие байдары увидав, сразу прочь бросился. После рассказывал — духи моря, мол, от лютой смерти уберегли. Ага, как же! Больно нужен глупый старик пришлым белым людям! Как никто другой, знал Иттымат — никакие они, белые люди, не демоны и не духи злые, как полагал Итинги, а самый обычный народ, «русичи» или «новгородичи». Жили они тут когда-то, лет шесть-семь назад, Иттымат к ним неоднократно наведывался. Шкуры да якутское золотишко на железные ножи выменивал, выгодное дело. По-русски говорить насобачился немного — не так, чтоб особенно чисто, но ничего — понять можно было. Потом отплыли новгородичи в дальние земли — осталось лишь человек полтора десятка, из которых шестеро умерли от цинги в первую же зиму, еще двух задрал медведь, четверо утонули, перевернувшись с челном, а уж остальным — старикам да мальчишкам — умереть сам Иттымат помог: заехав в гости, лично заколол сонных острым ножом, все железо забрал себе — выгодно обменял по весне на целое стадо оленей. Когда убивал, не поленился трупы подальше отвезти в тундру — на поживу зверю, так что в избах ничьих костей не было, потому и не боялся Иттымат новых русичей, знал хорошо — среди них тоже разного народу полно, есть кто поумней, есть — не очень, а есть и совсем глупые, типа охотника Итинги. Вот ехал теперь — до больших зимних холодов успеть хотелось — в нартах шкурки да самородное золотишко. За такое золотишко многие русичи родного брата убьют — о том тоже знал Иттымат, на большую прибыль надеясь.