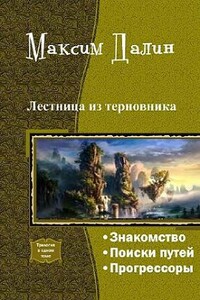Мерзавец Митч запер воротца, но я перемахнул через ограду и принялся рассматривать одинаковые могильные холмики под одинаковыми черными плитами. Надписи вогнали меня в тоску. "Добрые дети". Остров Добрых Детей. Откуда такой ненормальный обычай?
По датам на плите я определил могилу деда-ведьмака. Он прожил всего сорок семь. Могила решительно ничем не отличалась от прочих; ни кол в его тело никто не вбивал, ни сажал рядом с могильным камнем остролист или чеснок… Хотя, у них с бедным псевдодядюшкой Эдом, кажется, все вышло полюбовно…
С Эдом он, похоже, успел переговорить до смерти, размышлял я. Вероятно, приказал ему прибыть к смертному одру умирающего родственника. Перед смертью пообещал, что Эд станет волшебником, русалку ему представил… И сам велел похоронить себя так, под надписью "Доброе дитя".
Но — чье?!
Я стал сверять даты на камнях. Мои предки не отличались долгожительством; более пятидесяти семи никто из них не протянул. И тут меня ударило чудовищно странным фактом — я даже потряс головой, не веря собственным глазам.
Год смерти на каждой предыдущей плите соответствовал году рождения на каждой следующей. Дед умер в тот год, когда родился Эд — тридцать восемь лет назад?!
И разговаривал с Эдом перед смертью?! И дурацкую записку оставил новорожденный младенец?! Или — как?!
Мой тритон не умел говорить. Он только взобрался передними лапками ко мне на колени, когда я уселся на землю рядом с могилой Эда, и жалеючи, терся головой о мой локоть. Мне это мало помогло. Я чувствовал, что схожу с ума. Простейшие факты на этом проклятом острове не желали вязаться друг с другом в правильную цепь.
Я просидел так ужасно долго. Сначала мои мысли путались и сбивались в узлы, как некие тонкие, легко рвущиеся нити; потом в голове у меня появились какие-то проблески: я начал вспоминать все, что со мной произошло с тех самых пор, как на наш мейнский космодром приперся этот болван-нотариус.
И чем дольше и тщательнее я вспоминал, тем явственнее осознавал, что дело вовсе не в безумии фактов. Дело в том, что я не все знаю. От меня скрывают нечто очень принципиальное — и совершенно непонятное непосвященному.
Перед тем, как возвращаться в замок, я зашел в часовню, чтобы последний раз поставить свечку Богу. Часовня была заперта на висячий замок, но уж что умел делать мой вящий дух, так это отпирать запертые двери — замок так и остался висеть на петле, а дверь отворилась.
В часовне оказалось чрезвычайно затхло и пыльно. Насколько прелестной она выглядела снаружи, господа, настолько неухоженной и грязной оказалась внутри. Мне показалось, что ее не прибирали и не чистили священной утвари уже тысячу лет — такой там царил неуют. Предвечерний свет еле-еле брезжился сквозь мутные запыленные стекла. Паутина свисала с потолка пыльными клочьями, а все украшения и образа — очень древние, как я полагаю — пыль покрывала на два пальца, как толстое серое одеяло. Поп, отец Клейн, оказался вовсе не попом; он был обманщик, шарлатан и предатель в священническом облачении. Ни один поп в здравом уме не допустит такого безобразия в часовне своего прихода — к тому же кто угодно смог бы весьма легко определить, что тело бедного Эда тут не отпевали, конечно. Впрочем, еще бы! Как можно отпевать ведьмака в часовне, построенной для светлейшего Творца всего сущего? Мне даже представилась гадкая картина, как Митч и так называемый поп Клейн кладут мертвого Эда, который все еще немного похож на меня даже в смерти, на серый камень в подземном святилище, в выемку, сделанную специально для тела — нагого, наверное, расписанного кровью, тайными ведьминскими рунами по голому телу. Я просто-таки увидел, господа, как эти подонки служат какую-то гадкую службу Морскому Дьяволу, а три рыбы с удивленными глазами тупо смотрят на это сквозь стекло… Меня передернуло от омерзения.
И тут, государи мои, на меня вдруг нашел такой приступ благочестия, какого не бывало никогда в жизни! Я стащил с плеч эту шелковую тряпку, вышитую золотом, и принялся стряхивать ею пыль сначала со скульптур Божьих Вестников с крыльями чаек, а потом с лика самого Отца-Солнца, Создателя Жизни. Позолота на лучах, обрамлявших лик, выцвела и потускнела, но сам лик сохранился порядочно. О, друзья мои, мой Господь посмотрел на меня с доброй улыбкой, и я Ему улыбнулся и помолился единственной молитвой, которую помнил от маменьки: о ниспослании света на душу творения Его.