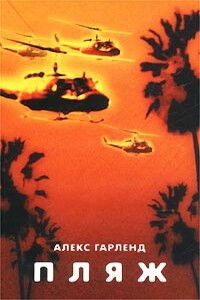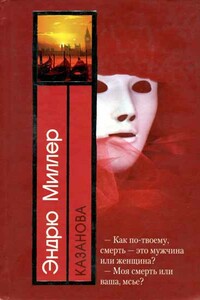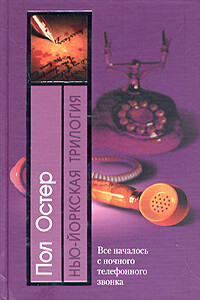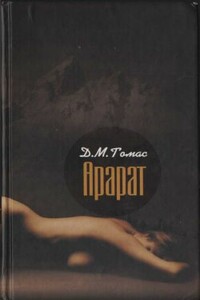Другие, возможно, будет исходить из того якобы объяснения, которая дает Елена Дейч в своей статье 1921 года «О патологической лжи», а скорее даже в редакции этой статьи, не предназначавшейся для широкой публики и представленной на следующий год в узком кружке. Как вы, конечно, помните, она там пишет, что один «в высшей степени заслуживающий доверия врач» измыслил ситуацию совершенно неправдоподобного «любовного треугольника», в существование которой почти что уверовал сам; с ним случилось «временное психическое помешательство» от страха за сына, или, если быть точным, «от страха, что его бессознательные разрушительные желания в отношении сына могут самым ужасающим образом осуществиться. Он знал, что, случись это, чувство вины и скорбь станут для него непосильным бременем, а поэтому искал спасения во лжи».
Педанты отвергнут саму мысль о том, что у меня мог произойти нервный срыв. Они скажут, что фрау Дейч, как это часто с ней бывало, писала о самой себе. Никто другой, заметят они, не оказывался постоянно одним из углов самых разных треугольников: то с ее отцом и ее любовником Либерманом, то с Либерманом и его несчастной женой, то с Либерманом и Феликсом, то с Феликсом и его бисексуальным другом Паулем, с которым она тоже спала. Ни у кого другого не было столь двойственных чувств к детям: аборт, когда она забеременела от Либермана; таинственная смерть едва родившегося либермановского отпрыска, зачатого в то время, когда любовник Елены утверждал, что его брак стал платоническим, и, возможно, убитого матерью из чувства мести; безумная любовь к собственному сыну Мартину и одновременно пренебрежение им. К тому же она всегда рассказывала друзьям о своих несуществующих романах.
Все это — неоспоримая истина. Даже двадцать лет спустя Елена могла расплакаться, вспоминая о смерти либермановского сына, сначала проклинаемого (как же, ведь он скреплял негодный брак ее любовника), потом обожаемого (в своих фантазиях она представляла себе, будто он — их общий ребенок, и надеялась, что хворая фрау Либерман может умереть), а потом горько оплаканного (но к этой скорби примешивалось и негодование, поскольку Либерман был вынужден утешать свою супругу).
Но хватит о фрау Дейч. Закованной в тугой корсет и разодетой в шелка и с глазами вечно на мокром месте. Хватит — а то кое у кого возникнут подозрения, что я пытаюсь скрыть, будто каким-то боком участвовал в ее отношениях с Феликсом. Они дознаются, что в один прекрасный день Елена остановилась у нашего дома и сказала себе: «Ах, эта бедная фрау профессорша!» Может быть, Фрейд был ее постоянным любовником, а когда она как-то и в бедном Феликсе нашла что-то привлекательное, приревновал ее? Должен признать, что Елена каким-то мистическим образом уже прокралась в это повествование.
Что же касается сонма моих врагов, то они с радостью поверят в историю с Бауэром и отвергнут все, что могло бы оправдать мое дурное поведение — будь то провокации Марты или тот факт, что я искренне желал ей счастья.
Возвращаясь к вопросу правды и лжи в этих воспоминаниях, буду честным: иногда я добавлял немного художественного вымысла. Например, Марта никогда не спала с Эли. Таким образом я хотел показать мою ревность, потому что они действительно испытывали влечение друг к другу. Я использовал ложь символически, для защиты, ради драматического эффекта, из-за недовольства моей тихой, небогатой событиями жизнью и из свойственной мне склонности повалять дурака.
А еще потому, что все мемуаристы лгут, притворяясь честными. Я же предпочитаю дать ученым мужам (этим блохам на голове исполина) возможность сверить даты и все прочее и провозгласить, посверкивая стеклами очков: «Этого быть не могло!»
Но что касается этого, истории с отцом Доры… Эрос — могущественный бог: вот все, что я могу сказать. «Тот еще парнишка!», как сказала однажды моя восхитительная «Кэт». А Психея была «той еще девчонкой»!
Она, поэт и женщина, была моим alter ego. Я рассказывал ей обо всем, в том числе и о l'affaire Bauer[16]. Кажется, она поняла. По ее мнению, фрау профессорша не понимала меня, потому что, как большинство людей, была жаворонком, тогда как я, подобно отцу Кэт, астроному, был совой и лучшие свои работы сделал ночью.