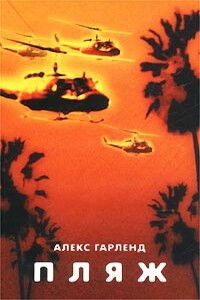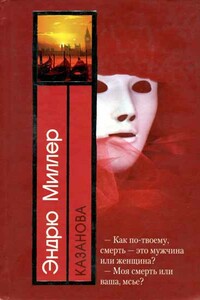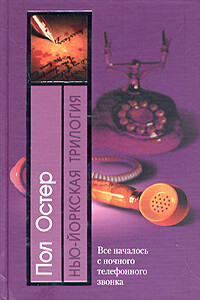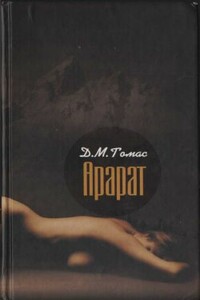Припоминаю, что тогда у нее случился первый выкидыш, и в те минуты, когда она не давала советов Анне и не выражала сочувствие мне, она пространно жаловалась на тяжкую долю женщин, вынужденных разрываться между работой и материнством, или, в ее случае, желанием стать матерью.
И (на жутком, ополяченном немецком) непрекращающиеся стенания по Либерману!
— Как вы думаете, мой брак может быть удачным, профессор?
— Вы должны сделать так, чтобы он удался! Для вас этот брак — удача: он дает вам свободу оставаться собой, развивать ваш талант.
— Да, но… это не то же самое. В моем браке нет страсти.
— Страстью сыт не будешь.
— Да, но теперь вы и сами убеждаетесь, насколько это важно…
У Елены всегда «Да, но…» Удовлетворить ее невозможно. Как послушаешь ее стенания, ее путаные мысли, копание в себе, копание в близких — ад покажется благодатью. Какую бы историю болезни она ни описывала, если вы от нее слышите «одна моя пациентка», смело можете ставить последний доллар (она выучила это выражение во время поездки в Америку), что она имеет в виду себя. Жуткий нарциссизм.
Я всегда восхищался Феликсом, который терпит и ее отлучки, и ее амбиции. Мартин не так терпелив; он просто ненавидит свою мамашу.
В моем дневнике не отразилась в достаточной мере двойственность ее сочувствия. Ее распирало от злости, когда я осмеливался заявить, что считаю Марту красивой и желанной. Можно себе представить, что она думала: «Да она старая! Она такая уродина! Она тупая! Неужели профессор растерял свои шарики?»
Все это пока осталось под спудом; она сидела на стуле, подав вперед свои довольно пышные формы и слегка разведя ноги под слишком узким платьем, и утешала, успокаивала меня своим мягким немецко-польским голосом.
Кроме того, она ревновала и к Анне, хотя и притворялась, что та ей нравится. Помнится, в тот день она сделала очень интересное сравнение.
— Она смышленая девочка, — заметила она. — Во многом узнаю в ней себя в восемнадцать лет. У нас с ней много общего, профессор; обе мы — третьи дочери любящих знаменитых отцов. Наши отцы израсходовали свои кровосмесительные позывы на наших старших сестер, и теперь мы можем использовать свою мужскую составляющую, чтобы пробиваться вперед и пытаться чего-то добиться в жизни. Вы согласны?
Я не соглашался и не возражал; голова моя целиком была занята Мартой. Я буквально ощущал, как ее мысли крутятся вокруг Филиппа.
— Но у Анны и мать хорошая. А мне пришлось выйти за Феликса, чтобы найти себе наконец хорошую мамочку. Если бы он еще и в постели был хорош! Чудесно, что он доит козу и дает мне теплое молочко, если я устала, но мне еще нужен и хороший твердый член! Я так мечтала о том, чтобы приехать домой и побыть с ним, но… стало еще хуже.
Она лениво потянулась, и ее формы под платьем стали еще явственнее. Она всегда носила платья в обтяжку. Позже, когда она начала совершать вояжи в Америку и разбогатела, она стала носить тончайшие шелка, и когда садилась, можно было разглядеть очертания ее корсета. Наверное, она думала, что это выглядит соблазнительно. Американцы, среди которых она теперь предпочитает жить, конечно, будут в восторге!
Впрочем, мне она тоже нравится.
Когда она встала, чтобы попрощаться, и я, как обычно, протянул ей руку, она взяла ее в обе свои и прижала к своей пышной, затянутой в корсет груди.
— Ни в коем случае не допустите, чтобы Анна нашла своего Либермана!
— Попытаюсь.
— Я была в ее возрасте, когда впервые переспала с ним. А влюбилась в него гораздо раньше. Я потратила на него лучшие годы своей жизни. Впрочем… — по ее телу пробежала дрожь, — он дал мне такое наслаждение, такое наслаждение… — Я сделал шаг назад, и ее рука в перчатке легонько коснулась моей щеки. — Я хотела бы жить в Вене, чтобы вы могли заглядывать ко мне.
Какое безрассудство!
— Очень мило с вашей стороны, но вы нужны вашим пациентам.
— Да. А ваша боль скоро пройдет. И, когда кончится эта безумная война, может быть, вы осуществите мое самое заветное желание и проведете со мной учебный психоанализ>{113}.
— Сочту за честь, фрау Дейч.
Она поднесла к губам мою руку, которую не выпускала все это время. У нее такое горячее сердце.