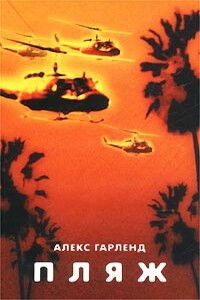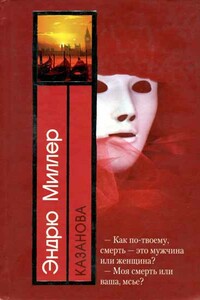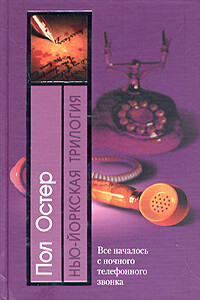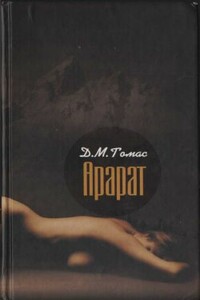Как она вспыхнула, когда впервые выдавила из себя, что испытывает позыв к мастурбации.
— Я ревную тебя к Софи — ты уходишь к ней, — шепчет она. Видя, что я медлю с ответом, она продолжает: — Меня сильно задело, что ты не разрешил мне приехать на ее свадьбу.
— Я считал, что тебе следует остаться в Мерано; ты перетрудилась, к тому же была больна.
— Знаю, но мне следовало бы приехать. Ты в том своем послании даже советовал мне не писать каждый день. Вроде чтобы я не переутомлялась, но я решила — ты не хочешь, чтобы я тебе мешала.
— Как глупо, Анна!
— Шесть месяцев! Немалый срок. И все же, — добавляет она более мягким голосом, — ты плакал, когда я вернулась домой после того миленького посещения гестапо.
— Да, я плакал.
— После отъезда Софи с Максом ты был так подавлен. У тебя оставалась одна я. Но я для тебя немного значила, если ты был в такой депрессии. Твой «комплекс Софи»! — Она злобно усмехается.
— Дело было не только в Софи. Вспомни, тогда ушли и другие. Юнг, Штекель.
— Да, конечно! Но признайся, больше всего ты был расстроен из-за Софи. Я читала твое эссе о трех ларцах.>{91} «Тщетно старик жаждет женской любви, какую когда-то давала ему мать; теперь лишь третья из Парок — молчаливая Богиня Смерти — примет его в свои объятия». Я была третьей; я думала, что означаю для тебя только смерть.
— И вот ты здесь… Анна-Корделия…
— И вот я здесь.
Я пытаюсь ее разубедить:
— Я безумно скучал по тебе всякий раз, когда ты уезжала. Например, когда гостила у Джонса и его любовницы в Англии. Когда разразилась война, я был в ужасе от мысли, что тебя могут интернировать.
— О! Может быть, это и было в моем сне! Интернирование.
Не в силах оторвать голову от подушки, я поднимаю руку в знак согласия:
— Вообще-то, Анна, там могла быть Лоэ Канн. Как звали того антисемита? Кун? Не такая уж большая разница.
Бывшая любовница Джонса, вышедшая замуж за американского Джонса Второго, отказалась приехать к нам после войны из опасения, как бы у нее не возникло чувство, что мои сыновья были бы не прочь убить ее мужа. Я пытался уверить ее в том, что мы, евреи, — люди без государства; но она не приехала. Это задело Анну. Это задело меня. У Лоэ милое, задумчивое лицо и редкий ум. Преодолев нежелание, я присутствовал на ее свадьбе в Будапеште.
— Отказавшись нас навестить, — говорю я, — она повела себя, как еврейская антисемитка.
Она на мгновение прекращает вязать, размышляя. Я знаю, что о красоте Лоэ у нее такое же представление.
— Возможно.
— Ты хочешь ее наказать.
— Я хочу ее избить! — смеется она.
— А я-то волновался, что Джонс тебя соблазнит! Я был очень сердит и расстроен, когда ты призналась, что твои фантазии были полны Лоэ.
— Это чтобы тебя наказать. Я знаю, ты ее любил.
Лоэ у меня на кушетке. Ее глаза вспыхивают, гаснут, устремляются на меня. Мы рассуждаем, оставить ли ей Джонса и выйти ли за Джонса Второго.
— Я любила ее, потому что ее любил ты, — добавляет она. — И Лу Саломе я любила потому, что ее любил ты. Я всегда отождествляла себя с тобой. Вот почему я никогда не могла… Я хочу сказать, Джонс был довольно привлекательным, мне льстил его интерес, но из-за тебя это было невозможно. Из-за тебя все мужчины были для меня невозможны.
Я тяжело вздыхаю.
— Впрочем, не так уж много мужчин мною интересовалось; я всегда была такая невзрачная.
— Что за чушь, Анна! Эти темные, глубокие глаза — сплошное очарование. А эти полные, чувственные и в то же время умные и ироничные губы! В некотором роде ты красивее, чем Софи.
Она вновь оставляет вязание; грудь вздымается и опускается.
— Спасибо, — шепчет она. — Когда я слышала те звуки из спальни, я мастурбировала с еще большим остервенением. А тебя за них ненавидела.
— Она была на пороге менопаузы, а в это время женское либидо выдает последний всплеск. Скоро это ждет и тебя, дорогая. Меня это тревожит. Потерять способность к зачатию, так и не узнав, что такое подлинная страсть, — это печально. Если только вы с Дороти не…
Некоторое время мы молчим. Анна встает, чтобы подбросить дрова в камин. Когда она возвращается, я говорю:
— Да, несколько дней я беспокоился, что твоя мать забеременела. Это было бы катастрофой.