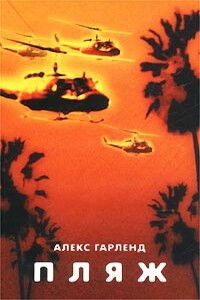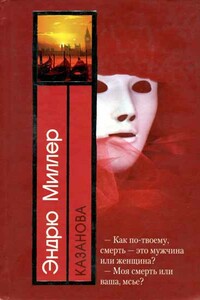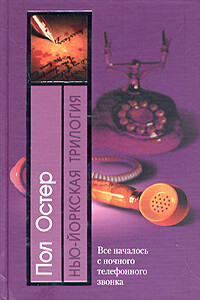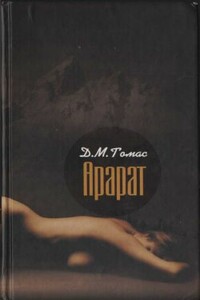Она во второй раз приехала в Вену, чтобы проконсультироваться у меня. Движется к Берггассе по улицам, которые во время недавних беспорядков>{79} обагрились кровью. Это ее не останавливает. Мне она сразу понравилась. Она немного старше, чем была бы Софи, если бы не умерла. Я показал ей Софи, мою любимую дочку, — фотографию в медальоне на часовой цепочке. Дочку Кэт зовут Пердита, а Кэт — Пердита для меня: застенчивая, бледная, странноватая женщина с американскими оборотами речи, но английским произношением. Она, как шекспировская девушка, приносит мне «цветы весенние».>{80}
Кэт высокая — при первой встрече меня выводило из себя, что эта классическая красавица возвышается надо мной. Ее задумчивые серые глаза словно всматриваются вдаль со скалистого греческого берега, зная, что эти корабли на синем горизонте найдут в Трое лишь тень Елены.
И, конечно, слегка мужеподобна. Сильные рот и нос, коротко постриженные волосы. Помесь Гермеса и Афродиты. Одета вроде как в разнородное тряпье, купленное на распродаже, но все на ней удивительным образом сочетается. Сегодня на ней мешковатая белая блуза и твидовая юбка. Я чем-то ей угодил; с ней я чувствую себя свободно, и она — тоже.
— Хотите узнать, кого вы мне напоминаете? — говорит она.
— Кого?
— Иисуса. Но только после его воскрешения.
— Вы хотите сказать, что я для вас — не мужчина. Я слишком стар, — стучу я рукой по боковине софы.
— Нет, я имела в виду не это. В вас есть что-то восточное; вы побывали за гранью смерти и вышли с другой стороны.
— Мы, евреи, очень живучи, Кэт, — и я рассказываю ей анекдот об одном еврее, который, кое-как выбравшись из потерпевшего крушения поезда, осеняет себя крестным знамением. Католический священник спрашивает, не выкрест ли он. А тот говорит: «Нет, я просто проверял, все ли на месте: очочки, яички, часы, кошелек». Кэт смеется. Я добавляю, что благодаря некому подобию рифмы этот анекдот звучит лучше по-английски (язык, на котором мы говорим), чем на идише или немецком.>{81}
— Вам надо уехать в Америку, — говорит она. — Вы там произведете невероятный фурор. Вы очень похожи на наших бейсбольных тренеров. Могли бы получить работу психоаналитика при какой-нибудь бейсбольной команде. А у каждой команды есть такие девочки-заводилы — они прыгают и поют на трибунах. Вот они бы и вопили: «Зигмунд — наш парень! Гей! Гей! Гей!»
— Гей-гей, хоть и не гой.
— Вот именно! В саму точку, профессор! — Ухмыляясь, она сует за пазуху большую белую руку и чешется. Я весь устремляюсь за ее пальцами. — Жаль, что я вас не встретила, когда вы приезжали. Когда это было? В девятьсот девятом?
— Да.
— В тот год я колебалась между Фрэнсис и Эзрой.>{82} Наверное, я никогда не переставала, — она вытаскивает руку, чтобы сделать волнообразное движение кистью, — колебаться.
— Из того, что вы рассказывали мне о Фрэнсис, я могу заключить, что она не слишком вам подходила.
Она молчит, поджав губы, — недовольна.
— Но Брайер вам нравится, — неуверенно говорит она.
— Да, она мне нравится, нравится.
— Естественно… Вы же знаете, она назвала себя по острову.>{83}
— Она мне говорила.
Сонным голосом:
— Я люблю острова, люблю острова.
Доэдипов комплекс, она мечтает найти свою мать.
Я добавляю:
— К тому же она богата.
Она прыскает:
— Да, это немало. Она щедра ко мне и моим любовникам.
— И ко мне.
— Верно… Ну, так вам понравилась Америка?
— Боюсь, что нет. Невыносимо каждое утро сталкиваться с такой прорвой паранойи, истерии, алчности, похоти, тщеславия, эгоизма…
— Бог ты мой! Да вы же там просто мучились!
— Нет, я имел в виду Юнга.>{84}
Я растягиваю губы в улыбке, хотя с протезом это очень неудобно. Она заливается смехом:
— Вы в шутливом настроении, профессор!
— Благодаря вам, Кэт.
— Вот и хорошо!
— Но мне уже порядком надоело быть вашей мамочкой.
— Ах, да… Ночью в своем гостиничном номере я видела ее грудь.
Кэт страдает галлюцинациями.
— Грудь матери.
Она отодвигает воротник блузы, чтобы снова почесаться, и я вижу родинку у самого подножия восхитительного холмика.
— Вам-то, профессор, небось, не доводилось видеть плавающую перед вами грудь матери!
— Не доводилось.