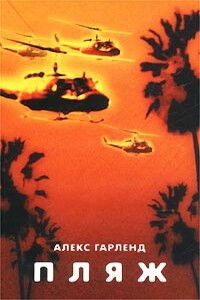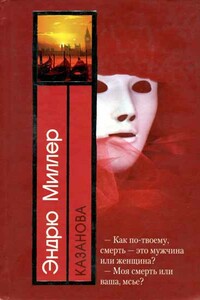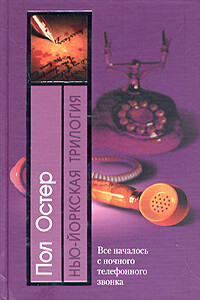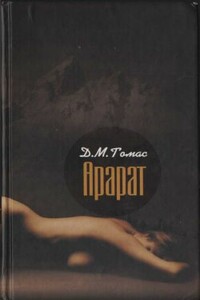И тут я начинаю вспоминать нечто еще более неприятное. Только что Брейер возбужденно рассказал мне о своей пациентке Берте Паппенхейм, у которой помимо прочих жутких немочей были парализованы три конечности. Вроде бы благодаря откровенным беседам с ним она излечилась. Посвежевший после хорошего обеда, горячей ванны, в чистом белье, выданном мне божественной Матильдой Брейер (в честь которой я потом назову свою первую дочь), я несусь домой и взбегаю по лестнице. Отца я нахожу в его кабинете, он, как обычно, погружен в чтение Талмуда. Я торопливо объясняю, что мне нужно, прошу позволить мне загипнотизировать его. Поставить научный эксперимент, необходимый для моей карьеры. Он, как и всегда, рад мне помочь; моя монография по афазии заняла почетное место на его полках для священных книг. Он хорошо внушаем и скоро погружается в состояние гипноза.
Мы сидим лицом к лицу. Вскоре он начинает словоохотливо признаваться в своих грехах. Точнее, в одном страшном грехе. Я сижу, словно пригвожденный к стулу, а потом разражаюсь потоком справедливых обвинений.
— Да, ты прав, Шломо, — отвечает он чуть ли не со слезами. — Я слаб. Я всегда был слаб. Я не должен был лезть в канаву за шапкой. В тех обстоятельствах я не должен был жениться на твоей матери. Но что еще мне оставалось делать? Или кому другому? Отправить ее на аборт? Забудь об этом. Или мы должны были погубить жизнь бедняжки Марии? И жизнь моих маленьких внуков? — Тяжелый вздох, рыдание. — Ты не можешь себе представить, в каком состоянии находился Эмануил. Он по-своему любил жену, но в то же время любил и твою мать. Любил? Да он был просто помешан на ней! Мне казалось, что таким путем я смогу всех осчастливить.
— А Ребекку?
Еще один глубокий вздох, и он беспомощно машет руками.
Ее горящие глаза. Не уверен, что когда-нибудь я их видел. Я думаю, что начал видеть их только после того вечера в кабинете отца. Да и что вообще может помнить человек о трех первых годах своей жизни?
И еще Моника. Я думаю, это мать говорила мне, что та была старой и уродливой, — затаенная ревность.
Я хорошо помню Красное море. Я всегда думал, что это была ее менструация, ее грязь. Но вдруг я понимаю, что случайно наткнулся на нее, голую, в жестяной ванне, из ее запястий текла кровь. Я бросился прочь и позвал маму. Это спасло Монике жизнь.
Исход.
— Эмануил ничего не мог с собой поделать. Он был как сумасшедший, — защищается отец.
— Как сумасшедший?! Почему же тогда он не целовал горячую плиту?
Его губы кривятся в усмешке, но он быстро соображает, что улыбка сейчас неуместна, и лицо его принимает скорбное выражение.
— Я знал, что их страсть недолговечна, Шломо. Я знал, что она ему надоест и он опять станет верным супругом.
(Для гоев: муж возвращается домой и видит, что на плите для него готовится ужин, а жену целует и тискает молодой квартирант, который тут же убегает. Жена говорит мужу: «Он ничего не мог с собой поделать, он сумасшедший!» А муж отвечает: «Сумасшедший? Тогда почему он не целовал горячую плиту?»)
Мой отец любит еврейские шутки.
— Я думаю, что на самом деле ты шел на поводу у жадности и похоти, — говорю я с жестокой прямотой.
— Нет, Шломо!
— Да. Содержать семью собственными жалкими трудами ты не мог. А тут в твою постель свалилась эта красивая, страстная девушка. Ну да, сразу тебе не удалось ею овладеть. Но ты возбуждался, прижимая к себе ее теплое тело и думая о том, что всего несколько часов назад она занималась любовью с одним из твоих сыновей.
— Нет! Нет!
— Что его сперма в ее чреве еще не успела засохнуть. Его дитя росло в ней! Она, конечно же, позволяла тебе ласкать себя, но при этом демонстрировала свое отвращение. Почему ты не хочешь этого признать? Тебя все это возбуждало, потому что ты бесхребетный; тебе нравится, когда тебя обижают, унижают и оскорбляют.
Он прячет лицо в ладонях.
— Ну, хорошо, — говорю я уже более мягким тоном. — Когда я трижды щелкну пальцами, ты проснешься и не будешь ничего помнить из нашего разговора; ты будешь думать, что мы вспоминали о наших совместных прогулках в венском лесу, когда ты помогал мне готовить уроки. Ты будешь спокоен и безмятежен.