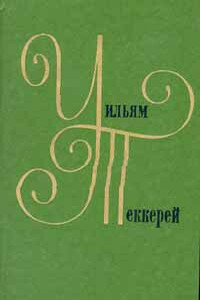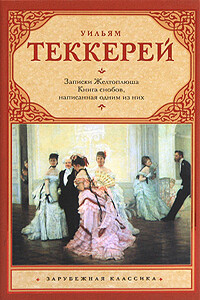С этими словами добрый джентльмен взял жену под руку, и они спустились по широкой дубовой лестнице в обширную старинную прихожую, где по стенам висели портреты многих усопших Ламбертов, достойных мировых судей, воинов и помещиков, каким был и полковник, с которым мы только что познакомились. Полковник обладал мягким лукавым юмором. Французский урок, который он разбирал со своими дочерьми, включал сцену из комедии господина Мольера "Тартюф", и папенька всячески подшучивал над мисс Тео, называл ее "мадам" и церемонно ей кланялся. Девицы прочитывали с отцом одну-две сцены его любимого автора (в те дни девицы были не менее скромны, чем теперь, хотя их речь и была несколько более вольной), и папенька очень смешно и с некоторой игривостью произносил слова Оргона из этой знаменитой пьесы.
Оргон
Ну вот, все хорошо. Вы, Марианна, мне
Всегда казалися смиренною вполне,
Поэтому я вас всегда любил сердечно.
Марианна
Отцовская любовь ценна мне бесконечно.
Оргон
Отлично...
Что вы скажете о нашем новом друге?
Марианна
Кто? Я?
Оргон
Вы. Но к своим прислушайтесь словам.
Марианна
Что ж, я о нем скажу все, что угодно вам. (Читая эту последнюю строку, мадемуазель Марианна смеется и против воли краснеет.)
Оргон
Ответ разумнейший. Скажите же, что, мол, он
От головы до ног достоинств редких полон,
Что вы пленились им и вам милей всего
Повиноваться мне и выйти за него {*}.
{* Мольер. Тартюф, или Обманщик, д. II, явл. 1.
Перевод М. Лозинского.}
— Не правда ли, Эльмира, мы очень мило прочли эту сцену? — со смехом спросил полковник, поглядев на жену.
Эльмира и их дочери были в восторге от чтения Оргона — как, впрочем, почти от всего, что говорил или делал полковник Ламберт. А ты, о друг-читатель, можешь ли ты рассчитывать на верность безыскусственного и нежного сердца — и притом не одного? Можешь ли и ты среди милостей, которыми одарило тебя небо, назвать любовь верящих в тебя женщин? Очисти собственное твое сердце и постарайся, чтобы оно было достойно их. И на коленях, на коленях благодари за ниспосланную тебе милость! С ней не сравнятся никакие иные сокровища. Все награды, сулимые честолюбием, богатством, наслаждениями, — лишь суета, не приносящая нам ничего, кроме разочарования. Их жадно хватают, за них радостно дерутся, но вновь и вновь усталый победитель убеждается, что они не стоят ровно ничего. Но любовь не кончается с жизнью, простирается за ее пределы. Мне кажется, мы уносим ее с собой за порог могилы. Разве мы не любим тех, кто ушел от нас? Так неужели мы не можем надеяться, что и они нас любят и что когда мы, в свою очередь, умрем, любовь к нам останется жить в двух-трех верных сердцах?
Но скажите, почему, с какой стати, зачем эта проповедь? Видите ли, о семье Ламбертов я знаю гораздо больше, чем вы, снисходительный читатель, кому я только что их представил, — да это и естественно: как вы могли их знать, если никогда прежде о них не слышали? Возможно, мои друзья вам не понравятся: людям редко нравятся новые знакомые, когда им представляют их с неумеренными и пылкими похвалами. Вы говорите (вполне естественно): "Как! H это все? И вот от этих-то людей он без ума? Но ведь дочка вовсе не красавица, маменька добродушна и, возможно, была когда-то недурна, хотя от ее прелестей не сохранилось ничего, а что до папеньки, то он человек самый заурядный". Пусть так. Но признайтесь, разве зрелище честного человека, его честной любящей жены и любящих, послушных детей вокруг них не трогает вас и не радует? Если вас познакомят с таким отцом семейства и вы увидите горячую нежность на любящих лицах, окружающих его, и то ласковое доверие и любовь, которые сияют в его собственных глазах, неужели вы останетесь холодны и равнодушны? Если вам доведется гостить в доме такого человека и увидеть, как поутру или ввечеру он, его, дети и слуги соберутся вместе во имя Некое, неужели вы не присоединитесь смиренно к молитве этих слуг и не завершите ее благоговейным "аминь"? В этот первый вечер его пребывания в Окхерсте Гарри Уорингтону в полубреду, вызванном снотворным питьем, вдруг почудилось, что он слышит вечерний псалом, и что поет его любимый брат Джордж, и что он дома, — и, успокоенный этой мыслью, больной снова крепко заснул.