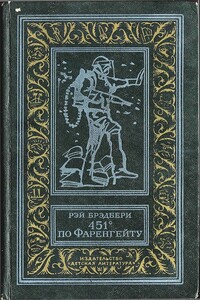– Ну, что еще?
– Когда мы заходили, человек в темном костюме с той стороны улицы перешел на эту. Он только что прошел по проходу и сидит у нас за спиной.
– А-а, Элен!
– Прямо за нами?
По очереди три женщины обернулись поглядеть.
Они увидели бледное лицо в мелькающих жутковатых отсветах с экрана. Оно ничем не отличалось от остальных мужских лиц, маячивших в темноте.
– Я вызываю управляющего! – Элен поднималась по проходу. – Остановите фильм! Дайте свет!
– Элен, вернись! – закричала Лавиния, вставая.
* * *
Они постучали по донышку осушенных стаканов с газировкой, у каждой ванильные усики на верхней губке, которые они нащупали кончиком языка и засмеялись.
– Ты видишь, как глупо? – вопрошала Лавиния. – Вся эта кутерьма впустую. Как неловко!
– Извини, – тихо сказала Элен.
Часы показывали половину двенадцатого. Они вышли из темноты кинотеатра, прочь от шаркающего потока мужчин и женщин, торопящихся попасть куда-то и никуда, на улицу, посмеиваясь над Элен, которая и сама пыталась смеяться над собой.
– Элен, когда ты бежала по проходу и кричала «Дайте свет!», я думала, что помру. Ах, этот бедняга!
– Братец директора кинотеатра из Расина!
– Я же извинилась, – сказала Элен, глядя вверх, на большой вентилятор, который еще крутился, завихряя теплый ночной воздух, смешивая, перемешивая ароматы ванили, малины, мяты и «Лизола».
– Не нужно было терять время на газировку. Полиция же предупреждала…
– А, к черту полицию, – усмехнулась Лавиния. – Я ничего не боюсь. Неприкаянный сейчас за миллион миль отсюда. Его еще несколько недель не будет, а к тому времени полиция его сцапает. Дайте срок. Замечательный был фильм, правда?
– Закрываемся, дамы.
В прохладной, кафельно-белой тишине продавец выключил свет.
С улиц как ветром сдуло автомобили, грузовики и прохожих. Яркие огни все горели в витринах магазинчиков, где теплые восковые манекены поднимали лиловые восковые руки в горящих бело-голубых бриллиантах, выставляли напоказ оранжевые восковые ноги в чулочках. Стеклянно-синие глаза манекенов следили за дамами, проходящими мимо, по пересохшему руслу улицы, их лики мерцали в витринах, как цветы в потоке темных вод.
– Интересно, если мы закричим, они что-нибудь сделают?
– Кто?
– Манекены, народец из витрины.
– О-ох, Франсин.
– Ладно…
В витринах стояла тысяча людей, одеревенелых и безмолвных, а на улице три человека постукивали каблучками по раскаленной мостовой, и отзвуки их шагов отскакивали от магазинных вывесок, как выстрелы.
Они миновали тускло мигавшую красную неоновую рекламу, которая гудела, словно околевающее насекомое.
Впереди простирались длинные авеню, раскаленные и белесые. Высокие деревья трепетали на ветру, который касался лишь зеленых верхушек, выстроившись по обе стороны трех маленьких женщин. Издалека, со шпиля здания суда, они казались тремя кустами репейника.
– Сначала проводим тебя, Франсин.
– Нет, это я провожу вас.
– Не болтайте глупостей. Вы живете на отшибе, у Электрик-парка. Если вы проводите меня, вам придется одним топать обратно через овраг. И если на вас свалится хотя бы листочек, вы помрете.
– Я могу переночевать у тебя дома, – сказала Франсин. – Это же ты у нас красотка!
Они шагали, плыли, как три изысканно разодетых силуэта, по залитому луной морю лужаек и бетона. Лавиния наблюдала, как мелькали деревья по обе стороны от нее, прислушиваясь к журчанию голосов подруг, которые силились выдавить из себя смех; и ночь, казалось, ускоряется, казалось, они бегут, хотя медленно шагали, всё, казалось, убыстряется и окрашивается в цвет горячего снега.
– Давайте споем, – предложила Лавиния.
Они запели:
– Сияй, сияй, о полная луна…
Они пели сладкоголосо и тихо, рука об руку, не оглядываясь. Чувствовали, как горячий тротуар под ногами остывает, движется, движется.
– Послушайте! – сказала Лавиния.
Они прислушались к летней ночи, в которой сверчки и далекий бой часов на здании суда возвестили, что уже без четверти двенадцать.
– Послушайте!
Лавиния прислушалась. В темноте поскрипывали качели, на которых молча, в одиночестве, сидел мистер Терле, докуривая последнюю сигару. Розоватый огонек плавно раскачивался из стороны в сторону.