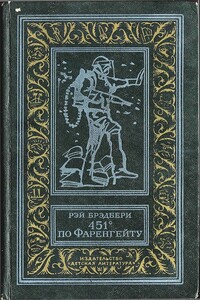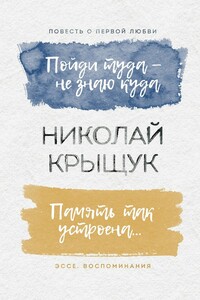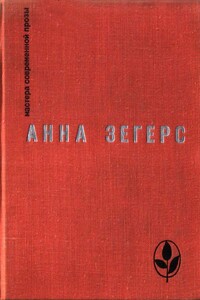Дуглас ощущал под ногами движение земли и видел, как их тени отрываются от травы и окрашивают воздух.
Он сглотнул слюну, затем исторг истошный вопль, размахнулся и запустил мяч со свистом под небеса.
– Кто последний добежит до дому – носорожья задница!
Они затопали по полотну железной дороги, хохоча и перемалывая воздух. При этом Джон Хафф оторвался от земли, а Дуглас – ни в какую.
* * *
Семь часов вечера. Ужин окончен, и мальчишки выбегают по одному, грохоча дверями, а родители кричат им вслед, чтобы не хлопали дверями. Дуглас и Том, Чарли и Джон и с полдюжины других мальчуганов собрались поиграть в прятки и в «фигура – замри».
– Сыграем разок, – сказал Джон. – Потом мне нужно домой. Поезд в девять. Кто водит?
– Я, – вызвался Дуглас.
– Первый раз вижу, чтобы кто-то водил по своей воле, – сказал Том.
Дуглас пристально посмотрел на Джона.
– Разбегайтесь! – закричал он.
Мальчишки задали стрекача. Джон отпрянул, потом повернулся и побежал прочь. Дуглас считал медленно, давая каждому уйти подальше, в свой мирок, рассеяться. Когда они разогнались и почти исчезли из виду, он глубоко вздохнул.
– Фигура, замри!
Все окаменели.
Дуглас стремительно пересек лужайку, где Джон Хафф застыл в сумерках как железный олень.
Вдалеке остальные мальчишки стояли с поднятыми руками и блестящими глазами, как у плюшевых бе́лок.
А Джон неподвижно стоял один, и никто не смел вмешиваться или поднимать шум и портить этот момент.
Дуглас обошел изваяние с одной стороны, потом с другой стороны. Истукан не пошевелился. Не проронил ни слова. Уставился на горизонт. С полуулыбкой на губах.
Давным-давно в Чикаго они зашли в большое здание с мраморными скульптурами, и он молча описывал вокруг них круги. А теперь вот Джон Хафф с травяными пятнами на коленках и на седалище, расцарапанными пальцами и ссадинами на локтях. Тенниски Джона Хаффа угомонились, ступни обуты в оболочку тишины. Вот уста, отведавшие этим летом уйму абрикосовых пирогов, изрекшие одно-два негромких высказывания о жизни и ее обстоятельствах. Вот глаза – не слепые, как у статуи, а до краев налитые расплавленным зеленым золотом. Вот при малейшем дуновении ветерка темные волосы развеваются то на север, то на юг, то на все четыре стороны. Вот руки, к которым приставало все, что только есть в городе: дорожный грунт, кусочки древесной коры, запахи пеньки, лозы, зеленых яблок, старинных монет или лягушат-огуречков. Вот уши, сквозь которые просвечивает солнышко, как сквозь яркую теплую свечу с персиковым ароматом, а вот еще его невидимое дыхание, благоухающее мятной жвачкой.
– Ни с места, Джон, даже моргать не смей, – велел Дуглас, – приказываю: чтоб три часа как вкопанный стоял!
– Дуг…
Джон зашевелил губами.
– Замри! – скомандовал Дуглас.
Джон опять возвел глаза к небу, но улыбаться перестал.
– Мне пора, – прошептал он.
– Не смей даже ухом повести! Играем по правилам!
– Мне уже домой надо, – сказал Джон.
Теперь статуя задвигалась, опустила воздетые ввысь руки и повернула голову, чтобы взглянуть на Дугласа. Они стояли, глядя друг на друга. Остальные ребята тоже стали опускать руки.
– Играем еще один кон, – объявил Джон, – кроме этого. Я вожу. Бегите!
Мальчики побежали.
– Фигура, замри!
Мальчишки замерли, и с ними Дуглас.
– Стоять, – кричал Джон, – не двигаться!
Он подошел к Дугласу и остановился.
– Другого выхода нет, – сказал он.
Дуглас смотрел в сумеречное небо.
– Замереть, застыть, всем до единого, на три минуты! – сказал Джон.
Дуглас чувствовал, что Джон ходит вокруг него, как только что он ходил вокруг Джона. Он почувствовал, как Джон ткнул его небольно в плечо.
– Бывай, – сказал он.
Поспешно зашелестели прочь шаги; он и не оглядываясь знал, что у него за спиной никого нет.
Издалека послышался паровозный гудок.
Дуглас простоял целую минуту, дожидаясь, когда же стихнет топот бегущих ног, но он не прекращался. Джон убегает, но что-то не похоже, что он очень далеко, думал Дуглас. Почему он еще бежит?
А потом он догадался – это стучит сердце у него в груди.
Хватит! Его рука рванулась к груди. Довольно бегать! Терпеть не могу этот звук!
Затем он обнаружил, что шагает по лужайкам промеж изваяний, и его не волновало, возвращаются они к жизни или нет. Казалось, они вообще не шевелятся. А у него ожили только ступни и колени. Остальное же стылым камнем тяготило его.