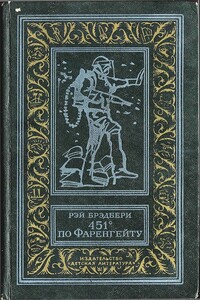А внутри машины Лина Ауфман сказала:
– Ох!
Потом изумленно сказала жена-невидимка:
– Ах! Ты только глянь! Париж!
Затем:
– Лондон! А вот Рим! Пирамиды! Сфинкс!
– Сфинкс, вы слышите, дети? – шептал и смеялся Лео Ауфман.
– Духи! – удивленно воскликнула Лина Ауфман.
Где-то патефон играл «Голубой Дунай».
– Музыка! Я танцую!
– Ей только кажется, что она танцует, – доверительно сообщил папа всему миру.
– Потрясающе! – сказала невидимая женщина.
Лео Ауфман покраснел.
– Какая понимающая женщина.
Затем в недрах Машины счастья Лина Ауфман заплакала.
Улыбка сошла с лица изобретателя.
– Она плачет, – сказала Наоми.
– Не может быть!
– Плачет, – сказал Саул.
– Такого просто не может быть! – Лео Ауфман, моргая, прижался ухом к машине. – Нет… действительно… как дитя…
Ему оставалось только открыть дверцу.
– Подожди.
Жена сидела. Слезы в три ручья катились по щекам.
– Дай закончить.
И она поплакала еще немного.
Лео Ауфман, потрясенный, выключил машину.
– О, нет ничего печальнее на свете! – горевала она. – Я чувствую себя ужасно, гнусно.
Она выбралась наружу через дверь.
– Сначала этот Париж…
– Чем плох Париж?
– Всю свою жизнь я и мечтать не смела о Париже. А теперь ты заставил меня задуматься: Париж! Мне сразу захотелось в Париж, но я знаю, что это несбыточно!
– Машина ему почти не уступает.
– Нет. Сидя в ней, я понимала. Я говорила себе, это понарошку.
– Мама, не надо плакать.
Она посмотрела на него большими черными влажными очами.
– Ты заставил меня танцевать. Мы не танцевали целых двадцать лет!
– Я свожу тебя на танцы завтра же вечером!
– Нет, нет! Это несущественно. Не должно быть существенным. Но твоя машина говорит, что это важно! И я ей поверила! Я еще немного поплачу, и все встанет на свои места.
– Что еще?
– Что еще? Машина уверяет меня: «ты молода». А я не молода. Лжет эта твоя Машина Печали!
– Что в ней печального?
Его жена теперь немного успокоилась.
– Лео, твой просчет заключается в том, что ты забыл о том часе и дне, когда нам всем предстоит выбраться из этой штуки и вернуться к грязной посуде и незаправленным постелям. Пока ты сидишь внутри, конечно, солнышко, можно сказать, светит вечно, воздух сладок, температура что надо. Все, что ты хочешь, чтобы не кончалось, не кончается. Но снаружи дети ждут обеда. Нужно пришивать пуговицы к одежде. К тому же, давай начистоту, Лео, сколько можно пялиться на закат? Кому нужен вечный закат? Кому нужна идеальная температура? Кому нужно, чтобы воздух всегда благоухал? Так что спустя некоторое время кто будет обращать на это внимание? Лучше закат на одну-две минуты. Потом что-нибудь другое. Люди так уж устроены, Лео. Как же ты забыл?
– Забыл?
– Закаты обожают за то, что они случаются однажды и исчезают.
– Но, Лина, вот это и печально.
– Нет, если закат непрестанный, это тебе наскучит. Вот истинная печаль. Так что ты сделал две вещи, которых не следовало. Скоротечные явления ты замедлил и остановил. Ты перенес издалека на наш задний двор вещи, которые не имеют к нам никакого отношения, а только твердят тебе: «Нет, Лина Ауфман, никогда тебе не доведется путешествовать, не видать тебе Парижа как своих ушей». Но это я и так знаю. Зачем же мне это говорить? Лучше забыть и обходиться без этого, Лео, перебиться как-нибудь, а?
Лео Ауфман оперся о машину и изумленно отдернул обожженную руку.
– Что же теперь, Лина? – спросил он.
– Не мне судить. Я только знаю, что пока эта штука здесь, мне захочется выйти, как Саулу прошлой ночью, и против собственной воли залезть в нее, и смотреть на все эти далекие края, и каждый раз плакать и стать негодной семьей для тебя.
– Я не понимаю, – сказал он, – как я мог так заблуждаться. Дай мне убедиться в твоей правоте.
Он залез в машину.
– Ты не уйдешь?
Жена кивнула:
– Мы тебя дождемся, Лео.
Он захлопнул дверцу. В теплом сумраке он замешкался, нажал на кнопку и отдыхал, откинувшись назад, в цветомузыке, когда услышал чей-то крик.
– Пожар, папа! Машина горит!
Кто-то молотил в дверь. Он вскочил, стукнулся головой и выпал наружу, как только дверца поддалась. За спиной он услышал приглушенный взрыв. Все семейство обратилось в бегство. Лео Ауфман обернулся и закричал: