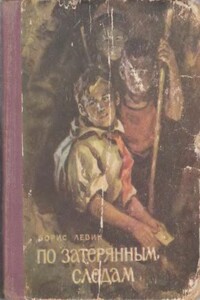— Добрый день, паночку!
— Добрый день!.. Кого вам?
Мужик смотрел на Котляревского внимательно, без тени испуга или подобострастия, и это располагало к нему. У Ивана даже настроение поднялось. Куда девались недавняя подавленность, чувство пустоты.
— Вы к кому? — еще раз спросил.
— Да что вам сказать, паночку. Такое дело... Беда, одним словом. И пришел я спросить: может, есть правда на свете?
В это время в соседней комнате зазвенел колокольчик. Иван обернулся, чтобы идти на вызов, попросил человека подождать, закрыл стол и направился в кабинет. Между тем Новожилов, собиравшийся, как видно, уходить, не дожидаясь протоколиста, вышел сам, уже одетый, с тростью в руке, и сказал:
— Не торопитесь. Вашу бумагу я прочитаю в понедельник.
Увидев стоящего у порога мужика, удивленно поднял кустистые брови:
— А это что?
— Человек. Вероятно, к вам, — вспыхнув, ответил Котляревский: как можно говорить о человеке «что»?
— Ко мне?
— Так, ваша милость, — поклонился мужик, подметая пол шапкой. — Беда...
— Что за беда?
— Пап наш записал в ревизскую сказку всю нашу семью. Нас семь братьев, да у каждого по два-три сына. И батька старого дописал с матинкою... А мы ж вольные, из деда-прадеда в запорожцах ходили... Так я с челобитною. А прозывают нас Вернигорами. Я Павло.
Новожилов уставился на казака пустыми бесцветными глазами и словно не видел, смотрел как бы сквозь него.
— Так помогите, пожалуйста, — снова поклонился Верннгора.
— Откуда будешь, человече? Село ваше далеко отсюда? Фамилия пана?
— Из Сухорабивки мы. А пан у нас Полуварич, Петро Васильевич.
Вернигора казался Котляревскому, когда смотрел на него из окна, невысоким, слабым, а теперь, в комнате, он был почти вровень с сухопарым Новожиловым, к тому же широкоплечий, взгляд прямой, черные свисающие усы, а руки крепкие, которые, думалось, многое могли делать, не зная усталости.
— Ты мужик. И речи твоей не разумею, понеже не учил вашего наречия. Пока его, слава богу, не преподают в университетах. — Губы Новожилова дрогнули в презрительной усмешке. Он стал медленно натягивать на левую ладонь замшевую перчатку.
Вернигора, чуть прищурившись, ответил спокойно, с достоинством:
— Так я, ваша милость, неграмотный. И речь моя такая от матинки досталась. Да я не про то — про пана толкую. Руки у него загребущие...
— Кто разрешил тебе, холоп, про своего господина речи такие вести? Господин Полуварич — дворянин, достойный во всех отношениях землевладелец. Ступай!..
— Куда?
— Я сказал: речи твоей не разумею. — Новожилова уже начинала раздражать настойчивость и какое-то немыслимое достоинство, сквозившее в каждом слове, в каждом движении этого человека.
— Не разумеешь? — Глаза Вернигоры хмуро блеснули.
— Позвольте мне, — выступил вперед до крайней степени взволнованный Котляревский. — Я перескажу... Я понимаю...
— Вы, сударь? — Новожилов словно теперь заметил Котляревского, обратил внимание на его необычно горящие глаза, смертельную бледность, покрывшую лицо. — Я не просил вас.
— Но, господин Новожилов, Аполлон Арсентьевич, как же так? Это же человек... Он просит...
— Кто? Раб? Как он смеет жаловаться на своего господина! Это же бунт! Да за это одно... — Новожилов натянул и вторую перчатку и поднял трость, как бы очищая себе дорогу к двери, но на пути стоял Вернигора. Он смотрел исподлобья, в руке сжимал шапку, а на закаменевшем лице застыла недобрая усмешка:
— Выходит, ваша милость, ты разумеешь, о чем я просил?
— Как смеешь?.. — на какое-то мгновенье остолбенел Новожилов. — Вон!
— Чего кричишь, будто тебя режут? — спокойно, надевая поглубже шапку, сказал казак. — Мы не пугливые. И скажу тебе: не дюже я надеялся на твою помощь. Наши еще надеялись, а я знаю: ворон ворону ока не выклюет. Что ж, попробуем сами еще разок поговорить с твоим достойным Полуваричем. Турбаи помнишь? Будут и новые, и, может, не одни... — И повернулся, чтобы идти, но поскольку Новожилов молчал, словно окаменевший, посмотрел на него с сожалением: — Нашей речи не разумеешь! А хлеб-то чей глотаешь? То-то. Молчишь? Онемел? Одначе, бог с тобой, может, обидел тебя господь, разума не дал. Но помочь тебе уже, наверно, нечем... А мы таки будем жить. Прощевай!