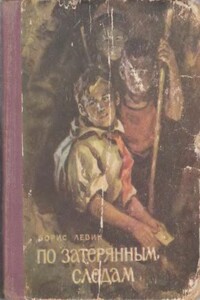— Знаю. Вы из канцеляристов будете. Батько и мать не велят, чтоб я стояла с вами... Неровня я вам. — И тише, с болью: — Отдают, меня за хлопца в Тахтаулово. Уже и заручины[3] были. Так что... — В глазах — мольба и слезы, — прощайте!
И, подняв коромысло с подцепленными на нем ведрами, пошла, поплыла по узкой стежке вверх, к хатке за вишневым садом. А он смотрел затуманившимся взглядом ей вслед — на тонкий стан, склоненную голову и косы, бившиеся на белой сорочке. Она уходила все дальше и дальше, пока не закрыли ее частые стволы вишен. Ушла. Не увидит он ее больше. И никого у него нет. Богатые сторонятся бедного канцеляриста, а бедные... видно, опасаются: как бы панок не обманул их. Впрочем, ему никто не нужен. Не об этом его думы. Болит сердце, иногда так защемит, что впору закричать. И пусть кричит, неразумное, пусть болит: что он ему скажет, чем поможет? Ничем он не поможет ему...
Однако пора и домой, матушка заждалась с ужином. Сама не сядет за стол. Сколько раз просил: «Не жди, может, задержусь». Вот и поспешай, брат Иван, во дворец свой на краю Соборной, туда, где встречаются четыре ветра четырех сторон света.
Свернул в переулок, издали увидел духовную семинарию — и сердце забилось сильнее. Так получалось помимо его воли: идет домой — и обязательно повернет в переулок, пройдет мимо семинарии, пусть это и крюк лишний, а все равно тянет. Замедляя шаги, засмотрелся на слабо освещенные окна: никак семинарская братия не разошлась еще, зубрит, мытарится. Заглянуть бы, вытащить семинаристов на свежий воздух. Да нет уж: мимо, мимо ведет дорожка.
— Иване! Ты ли это?
Никак, кличут? Обернулся. Да это же отец Иоанн! Хотел бежать — так обрадовался, но тот проворно сошел с крыльца и уже сам спешит навстречу. В рясе, бородат, а лицо свежее, нестарое.
Подошел, обнял, защекотал бородой:
— Здоров?
— Что мне сделается? А вы, отче? Почти неделю не виделись.
— О чем вспоминать? Покашлял, попил медку — и прошло... А я ждал тебя, Иване.
— Простите, отче... Много работы.
Учитель смотрел зоркими добрыми глазами на своего бывшего ученика. Вырос, выровнялся Иван, стал мужественнее. Тонкое благородное лицо, оспины нисколько не портят его, они почти даже не заметны, как перчины-родинки.
Иван привлек внимание Станиславского еще в первые дни знакомства, на первых же лекциях, вдумчивостью, самобытностью суждений, любознательностью и глубокими, совсем не семинарскими, знаниями. Первым учеником был и остался. И если бы учился дальше — кто скажет, кем бы стал? Никто не знал так историю, философию и латынь, как он, и никто не умел так удачно написать стихотворение на вольную тему. Очень надеялся Станиславский на этого ученика, думалось: со временем Иван заменит его, а может, и дальше пойдет. Хотел видеть его большим человеком. А вышел — в исполнители бумаг. В списки канцеляристов вписал его десятилетним мальчиком отец — служащий магистрата. Горькая судьба. А что изменишь? Кажется, все бы сделал для него, если б только мог.
Учитель вздохнул, и Котляревский, поняв его взгляд, его невольный вздох, приложил руку к груди.
— Спасибо, отче, — сказал он дрожащим голосом, — за все доброе, что дали мне. Вовек не забуду! Где бы я ни был, что бы со мной ни случилось, ваше слово, ваша мудрость, как заря, светить мне будут.
Станиславский, тоже растроганный, чтобы скрыть волнение, замахал руками:
— Иване, что говоришь? Чему я тебя научил? Да не будь душа твоя раскрыта всему новому, никто ничего не дал бы тебе. Сам ты кладезь премудрости, и мне бесконечно жаль, что тратишь лучшие годы свои на сочинение исходящих бумаг... А твой талант? Где он? Неужто забыл все?
— Я ничего не забыл. Все, чему вы меня учили, помню. Я все тот же, только...
— Что?
— Трудно мне. Гнетет все. Ушел бы. Но куда?
Станиславский понимающе смотрел на юношу. Молча шел рядом, чуть не задевая свесившихся над заборами золотистых яблоневых ветвей, выбирал дорогу поровнее. Иван; такой же высокий, как и учитель, шел бок о бок с ним, не смея нарушить молчания неосторожным вопросом. Станиславский остановился на углу переулка и Пробойной.