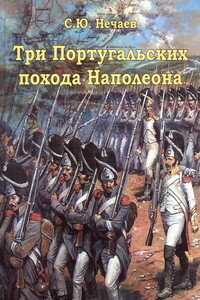В одежде, казалось, не было тела. Словно в гроб положили только мундир и брюки.
Хоронили брата в Чехии.
Шли служащие похоронного бюро с факелами.
Шли восемь драгун в шлемах, карабины через плечо.
Смотрю, как медленно поворачиваются колеса катафалка. Подскакивают и дробят дорожный щебень.
Покачиваются венки.
На катафалке карликовые жестяные латы.
Выползаем за город.
Вокруг, куда ни глянь, влажные, не просыхающие чешские поля.
И туман, туман, туман.
Накрапывает дождик. Священник говорит невыразительно, монотонно.
Кто‑то всхлипывает.
Держу в руках ржавую саблю и фуражку с эмблемой — альпийским эдельвейсом.
В кармане у меня коробочка. Signum laudis [55].
* * *
Я рассматриваю застекленную горку.
Часто ли, милый брат, открывал ты эту горку и брал в руки ну хоть бы вон ту фарфоровую балерину в обшитой кружевами кокетливой юбочке, чье гладкое розовое личико словно бы являет собой идеал красоты? Или вот того пританцовывающего скрипача в розовых полосатых брючках?
Сколько тут вещиц, которые ты любил!
Вещи пережили тебя. Вещи равнодушны к человеческим горестям. Они тупо глазеют на нас. Они лицемерны. И любят лишь тогда, когда сами любимы.
Вот чванливые старые драгоценности. Вот русский самовар, чайник, расписанный библейскими сюжетами.
Наверное, тебе было приятно, позанимавшись здесь часок-другой, походить по комнате, постоять у горки.
Ты любил вещи, но эгоизм помешал им последовать за тобой. Все вещи мира должны бы уходить вслед за нами в бездну небытия.
Но мир вещей продолжает существовать и насмехается над людьми.
А ведь тебе был дорог и этот мешок с сухими грибами, из которых тетушки умеют приготовлять свою знаменитую грибную подливу.
Знаю, тебе были дороги и стоящие на печке банки с вареньем, яблоки и груши на шкафу и бочонок с огурцами, придавленными здоровенным булыжником…
Теперь мой черед отправляться на войну. Нужно проститься с погибшим братом.
Вечереет.
Я иду на кладбище.
По дорожкам городского сада в поисках пищи шныряют голодные воробьи.
Гимназисты играют в футбол.
В саду, в ресторане, позвякивает оркестрион.
У нас старый семейный склеп, построенный еще в шестидесятые годы. Он выкрашен серой масляной краской. Вокруг красивая решетка, в передней стенке — ниша, и в ней ангел, пишущий что‑то на чугунных скрижалях.
Если кто‑нибудь из семьи захочет посетить нашу усыпальницу, он должен пойти к могильщику, взять ключ от калитки и метлу. Метлу дважды в год покупают тетушки, она хранится в домике могильщика, за корытом.
Никто из семьи не ходит к усыпальнице без метлы.
Снимешь шляпу и поклонишься мертвым.
Перелезешь через ограду, возьмешь две мисочки, разрисованные венками из незабудок.
Наберешь в них свежей водицы.
Подметешь осыпавшиеся с каштанов листья, хвою туи.
Если ты пришел вместе с тетушками, необходимо всунуть в пишущую руку ангела цветок. Неважно, что эта рука пишет, — таков уж установленный обычай.
Заходящее солнце продирается сквозь раскаленные тучи.
Город окутан сумраком. Зажигаются огни.
* * *
У тетушек празднично накрыт стол, на кухне готовятся гусиные потроха с рисом.
Вечером тетушки снарядили меня в путь-дорогу, проводили до вокзала. Несли вещи и плакали.
— Не плачьте, не плачьте, тетушки!
— Дай бог, чтобы ты, мальчик, вернулся к нам из Сербии живым и здоровым!
— Вернусь, вернусь, тетушки!
На переполненном вокзале словно в муравейнике.
Проходы забиты солдатами.
У перрона стоит длинный состав с германскими саперами.
Красные, зеленые, белые огоньки мелькают вдалеке.
Я опускаю раму окна.
Тетушки стоят рядком возле поезда, как две черные наседки, стоят, сгорбившись под вдовьими вуальками, молчат и плачут…
![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/uploads/books/images/5a/5a62a203b13a98ebd37930a1d000a24a3faf28f3.jpg)