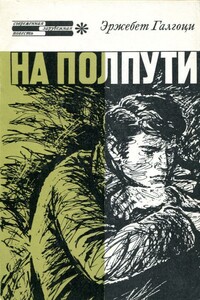— А это наша Марика! У нее, несчастной, восемь детишек.
Мы, сирые, все восемь, чтобы угодить нашим родственникам, наверное, должны были один за другим умереть с голоду или же пойти к ним в услужение. Именно это мы заслужили, считали они, кто знает почему, может быть, просто потому, что нас было восемь, а мы все же не пошли к ним в батраки… Более того, мы, так же как и они, покупали землю, наживали добро. Почти так же, как и они. В период между мировыми войнами родителям каким-то чудом удалось подкупить двенадцать хольдов земли и построить дом, который был ничуть не меньше, чем у наших родичей, а выглядел даже современнее, потому что вместо двух окон у него на улицу выходило целых четыре.
Может быть, именно это обстоятельство заставляло мать трудиться, не щадя себя? А кроме того, раз уж мы появились на свет божий, она хотела сделать нашу жизнь легче, чем ее собственная. Она работала до седьмого пота и нас тоже не жалела. Пока мы были детьми, она нас берегла, в деревне существовал неписаный закон: детей нельзя заставлять работать, иначе они вырастут хилыми. В деревне презирали тех женщин, которые брали маленьких детей из приюта и заставляли их гнуть спину на себя. Когда мы были детьми и, возвращаясь из школы, промокали до костей, мать сразу же укладывала нас в постель, готовила горячий чай с сахаром, который тогда стоил очень дорого. Но границу детства в деревне тоже определяли по своим законам. Десятилетний ребенок считался уже взрослым, мог пасти коров, в течение целого дня полоть виноградник, мог выполнять различные поручения типа «подай-принеси» весь день. В десять лет я пасла коров, а когда мне исполнилось двенадцать, старшие на целый день взяли меня с собой мотыжить. Я уже училась в средней школе, но была хилой, худой девочкой с тонкими, птичьими костями; я переболела всеми мыслимыми детскими болезнями, кроме того, у меня два раза было воспаление легких и два раза плеврит, вообще каждую весну и осень я болела. Мотыжили мы на июньском солнцепеке твердую, сухую, глыбистую землю, на которой рос картофель, а мне никак нельзя было отставать от остальных. Никто не говорил мне об этом, но я знала: отставать нельзя. Таков еще один деревенский закон: в работе нельзя отставать от других. И я мотыжила вместе со всеми, в том же темпе целый день. Ладони мои покрылись пузырями мозолей, ныла поясница, а голова раскалывалась от боли. К вечеру, когда до конца работы было еще довольно далеко, я почувствовала: больше не могу. Я уже не ощущала боли в руках, в голове, в пояснице, я вообще уже была не способна чувствовать боль, просто поняла, что больше не могу, что я сейчас лягу и умру, потому что больше работать невозможно, это уже за пределами моих сил. Но было нечто сильнее жизни и смерти: закон. Отставать нельзя! Я отошла на соседнее поле, где росла кукуруза, уселась на землю, меня вырвало. Я немного подождала, пока перестанет кружиться голова, и тогда услышала голос брата. Остальные уселись рядком, поджидая меня. Старший брат сказал:
— Нечего удивляться. Ей ведь всего двенадцать.
Мне стало так жалко себя, что слезы хлынули из глаз. Напрасно пыталась я проглотить их, стереть со щек, старалась не зарыдать навзрыд, моих слез никто не должен был увидеть. Наконец брат крикнул:
— Ну, что там с тобой?
Я вытерла лицо платком, вернулась на свое место и принялась мотыжить дальше. Со временем я привыкла, втянулась. А через два года, когда наступила очередь моего младшего брата выйти на работу в поле и мать засомневалась, выдержит ли он, я высокомерно заявила:
— Отчего же он не выдержит? Ему уже двенадцать. Я в его годы выдерживала. А он как-никак парень.
Вот так мы ухитрялись обрабатывать эти четырнадцать хольдов и строить дом. Мы не пошли в услужение к родственникам, у нас была собственная земля, на которой мы батрачили. Но никто из моих братьев и сестер не хотел быть крестьянином.
Я же решила стать великим человеком. Не помню, когда я приняла это решение, но, вероятно, в очень раннем возрасте, потому что в девять лет уже знала, что прославлюсь. В то время я считала, что стану великим поэтом. Мне было девять лет, когда мать получила от одной из своих покупательниц в Дёре, которой она носила молоко, яйца и другие продукты, толстую, как молитвенник, книгу стихотворений, написанных Петефи с 1842 по 1844 год. В нашей семье книги любили. Отец любил их, под его влиянием к чтению пристрастились и остальные члены семьи. Мы доставали книги самыми разными способами или же находили людей, которые нам их давали: покупатели из города Дёра, соседи-крестьяне, ухажеры старших сестер, ведь с библиотеками и сельскими интеллигентами, которые, естественно, читали книги, мы никак не были связаны. Тратить деньги на книги в нашей семье считалось совершенно немыслимым, а умение достать книгу у нас ценилось очень высоко. Мы читали подряд все, что попадало в руки, к счастью, нам попадались самые разные книги. Романы о ковбоях, романы о воздухоплавании, так называемые «грошовые романы», а также романы с продолжением: «Йошка Шобри», «Тайна нищего», хотя подобные книги уже редко встречались, детективные романы, но одновременно с этим я прочитала и «Госпожу Бовари», «Шандора Рожу» и «Крестьян». Вся наша семья много читала, за исключением матери. Иногда у нас завязывались прямо-таки рукопашные из-за какой-нибудь книги, а восклицания типа «Это же я достала» или «Я уже наполовину прочитала» не имели никакого значения, не давали никаких преимуществ, в таких спорах все решала физическая сила, право кулака. Если мне не удавалось тайком прочитать книгу первой, то она попадала ко мне в последнюю очередь, потому что я была самой слабой. Я очень страдала из-за этой несправедливости. Вспоминаю один эпизод: лет в тринадцать — дело было зимой, ранним вечером — я торопилась побыстрее закончить уроки, чтобы начать очередной роман Йокаи, который в нашей семье все уже прочли. К нам в дом заглянул тридцатилетний хромой сосед, он пришел спросить, нет ли у нас чего-нибудь почитать. Один из старших братьев предложил ему книгу, которую я собиралась читать.