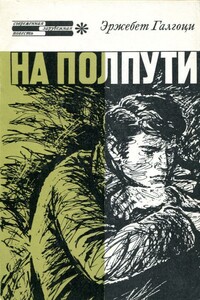От Йозана до белого креста еще добрых десять минут ходьбы. Двадцатипятилетняя Аннуш, сильная, здоровая женщина, делила эти десять минут между мужчиной, который остался в поле, и поджидавшими ее детьми. Да и не она делила — это само счастье делило ее надвое, присутствуя притом ежесекундно: так каменщик выкладывает стену — одним кирпичом ложится только что минувший день, другим — грядущий вечер. И кирпичи пристраиваются друг подле друга, как в стене, а стена с каждым часом все высится и растет, и в мечтах ее уже совсем готово, уже свершилось то чудо, на которое она и надеяться больше не смела, потому что жизнь понемногу, но грубо урезывала ее желания. А вот теперь все же что-то забрезжило впереди!..
Аннуш умела и любила работать на совесть, но с восемью хольдами земли она не справлялась в одиночку. Уже потому, что сама работа большей частью требовала хотя бы двух человек. К примеру, косить траву женщина может, на худой конец, и одна, но, чтобы наметать на воз, отвезти домой, нужен еще кто-то, кто наверху разровняет сено. Картошку можно окучивать и в одиночку, но осенью ссыпать ее в мешки и поднимать тяжелые мешки на телегу — тут одного человека мало, будь то даже мужчина. Работника держать она не могла, потому что те подряжаются только на круглый год, а ей зимой нечем было бы его кормить. Поденщик же или испольщик столько забирал из урожая, что им самим едва удавалось дотянуть до весны. Хлеба и кукурузы хватало, но больше ничего не было. Уже в апреле они ели только пустую похлебку с хлебом или кукурузными лепешками без жира и сахара. В это время и Фюге не давала молока, корове перепадали одни только сухие кукурузные стебли, с чего уж тут быть молоку? В ней самой душа в чем держалась! Зато в мешке с соломой припрятаны были деньги на поросенка, чтобы будущей зимой не помереть с голоду… Но когда Аннуш смотрела на ребятишек, которые с жадностью поедали пустые кукурузные лепешки, и по вечерам, когда она купала их и проводила рукой по их хлипким, вялым тельцам, ее охватывало безумное желание бежать в лавку, чтобы на деньги, отложенные на поросенка, купить мяса, сала и сахару, сахару, сахару! Но в это время лавка была уже закрыта, а утром Аннуш снова просыпалась с трезвой мыслью: и на будущий год как-то ведь надо жить!
Но теперь всему этому конец! Фабиан не такой, как другие. Фабиан — как приятно повторять это имя! — не бросит ее, даже когда узнает, чья дочь Аннуш Кевечеш.
Она наняла его месяц назад на ярмарке. Аннуш невольно улыбнулась, потому что вспомнила выражение: гостинец с ярмарки. Она выбрала на ярмарке этот гостинец. Себе и своим детям… Это был худой, оборванный парень с грустным лицом. В его глубоко посаженных карих глазах застыло боязливое недоверие, как у бездомной собаки, которая привыкла, что ее каждый гонит пинком от порога.
С каким трудом таяло это недоверие! А ведь он должен был почувствовать, что с самого начала полюбился «хозяйке». Аннуш угадала в нем сходную судьбу: отверженность, муки сиротства, которые разъедают человека, как рак. Они две недели проработали вместе в поле, прежде чем Аннуш вытянула из парня, что он подкидыш, не знает ни отца, ни матери, вырос в хлеву, из милости, у жадных и черствых хуторян, и как глубоко ни вглядывается в прошлое, не помнит, чтобы ему хоть раз позволили поиграть — хотя бы просто в придорожной пыли! Игрушек у него никогда не бывало, но играть-то ведь можно по-всякому, он чувствовал это. Только ему не разрешали.
Сегодня в полдень (женщина снова всем телом ощутила дрожь счастья) они съели под ивами хлеб и взятое в долг сало, и Фабиан сказал:
— Я принесу свежей воды из колодца, хозяйка.
Аннуш пересилила себя:
— Фабиан, не называй меня хозяйкой. Зови Аннуш.
Парень взглянул на нее, но тут же опустил голову, губы его задрожали…
— Не смею, — прошептал он.
Женщина придвинулась ближе, подняла его подбородок, заставила посмотреть ей в глаза.
— Скажи: Аннуш, — нежно попросила она.
Долгое время они смотрели друг на друга.
— Меня никто еще не любил, — прошептал мужчина, и взгляд его затуманился.
— Но я люблю тебя, Фабиан. Ты же знаешь, что люблю. Знаешь, ведь правда же?