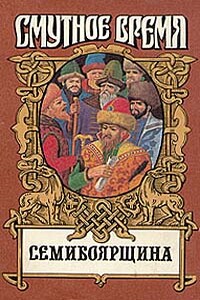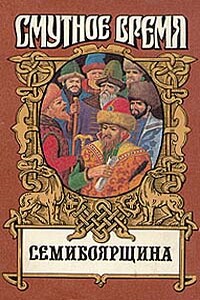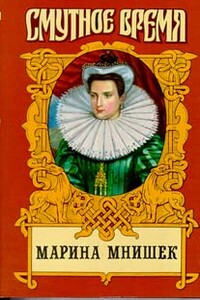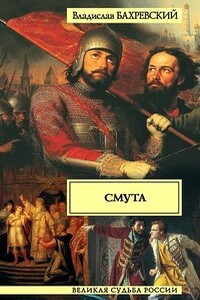— Господи, убереги от срама русский народ! — сказал он голосом ровным, разумным. — Ладно бы холопы бежали, люди обидчивые, зависимые. Князья бегут. От кого? От России? От царя Шуйского? Но к кому? К человеку безымянному, бесчестному, ибо имя у него чужое… В казаки всем захотелось? Но от кого воли хотят, от гробов пращуров? Кого грабить собираются? Свои села, крестьян своих?
Замолчал, слеповато вглядываясь в сидевшее боярство, в думных.
— Вот что я скажу, господа! Не срамите себя и роды свои подлой изменой. Я всем даю свободу. Слышите, это не пустое слово, в сердцах сказанное, а мой государев указ. Не желаю вашего позора в веках! С этой самой минуты все вольны идти куда угодно. Кто хочет искать боярства у Вора, торопитесь! Кто хочет бежать от войны и разора в покойные места, если они есть на нашей земле, — торопитесь! Я хочу, чтобы со мной остались верные люди. Я буду сидеть в осаде, как сидел в приход Болотникова, — снова обвел глазами Думу. — С Богом, господа! Я удалюсь, чтобы не мешать вам сделать выбор.
Шуйский поднялся с трона, но к нему кинулись Мстиславский с Голицыным.
— Остановись, государь!
Послышались возгласы:
— Евангелие принесите! Дайте Крест!
И поставили патриарха Гермогена с Крестом и Евангелием возле престола русского царя, и прошли всей Думой, целуя Крест и целуя Евангелие, и каждый восклицал от сердца свои хранимые слова.
— Умру за тебя, пресветлый царь! — ударил себя в грудь Иван Петрович Шереметев, а брат его Петр Петрович расплакался, как дитя.
Воодушевление Думы разнеслось ветром по Москве, крася лица отвагой, ибо все глядели прямо и не отводили глаз от встречного вопрошающего взора.
А наутро хуже разлившейся желчи, жалкая, позорная весть. К тушинцу бежали Иван Петрович да Петр Петрович — Шереметевы, те, что вчера выставляли перед царем и Богом верность свою, — краса дворянства русского.
В тот же день царь Василий Иванович приказал все войска, стоящие вокруг Москвы, собрать за городскими стенами, не проливать крови своей и своей же, ибо в бесчисленных, в бессмысленных стычках с той и с другой стороны гибли русские.
— Не надеется царь на войско, — сообразили умные.
4
23 сентября после тяжелых сражений с московскими воеводами литовский магнат Ян Сапега пришел с отрядом вольной шляхты под стены Троице-Сергиева монастыря. Началась долгая, длившаяся полтора года осада.
Вот свидетельство очевидца этого испытания. 29 марта 1609 года царевна Ксения — инокиня Ольга — писала своей знакомой: «Государыне моей свету тетушке кн. Домне Богдановне Борисова дочь Федоровича Годунова челом бьет. Буди, государыня, здорова на многие лета, со всеми своими ближними приятели. Пожалуй, государыня, пиши ко мне о своем здоровье, а мне бы про твое здоровье слышав, о Господе радоватися. А про меня похочешь ведати, и я у Живоначальные Троицы, в осаде, марта по 29 день, в своих бедах чуть жива, конечно больна, со всеми старицами; и впредь, государыня, никако не чаем себе живота, с часу на час ожидаем смерти, потому что у нас, в осаде, шатость и измена великая. Да у нас же за грех наш, моровое поветрея: всяких людей изняли скорби великия смертныя, на всякой день хоронят мертвых человек до двадцати и по тридцати и больши; а которые люди посяместо ходят, и те собою не владеют, все обезножели. Да пожалуй отпиши ко мне про московское житье, про все подлинно, а яз тебе, государыне своей, много челом бью».
В Троице-Сергневом монастыре терпели, а в Грановитой палате царь Шуйский сидел с боярами, думал и о Троице, и о других делах.
Слушали патриарха Гермогена.
— Мне отовсюду говорят, чтобы я осудил и проклял митрополита Филарета за его самозванство. Вот и здесь, в Думе, подали мне сегодня грамоту высокопреосвященного Филарета, которая подписана: «Митрополит ростовский и ярославский, нареченный патриарх Московский и всея Руси».
Борода патриарха уже потеряла цвет и почти вся была серебряная, но черные глаза его не утратили ни света, ни блеска. Он поставил свой пастырский посох перед собой, и рука его, ладная, сильная, покоилась на посохе с державной уверенностью.
— Нет! — сказал Гермоген. — Я не стану проклинать Филарета, ибо он — в плену. Не перелетел, как иные, с гнезда на гнездо, а пленен. «Не судите, и не будете судимы, — заповедал нам Иисус Христос. — Не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете». Что же мы забываем божественный урок, как только нам представляется истинная возможность исполнить заповедь?