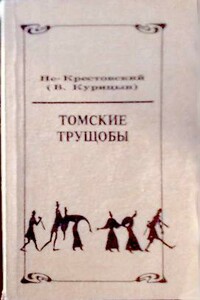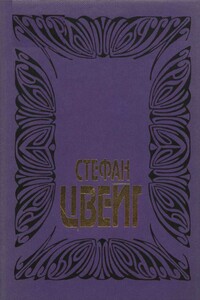— …Знамя рабочего класса…
— Проходите, не задерживайтесь!
— Ох, батюшки, мальчонку задавили! Отцы мои…
— Сторонись, тётка!
…Любопытные всё прибывали.
На тротуарах становилось тесно. Гул перекрёстных фраз, отрывистых восклицаний стоял над толпой.
…Между тем, демонстранты медленно, но уверенно подвигались по улице. Путь пока был свободен.
В их рядах преобладали молодые безбородые лица. Сотни глаз блестели юношеским энтузиазмом.
В первом ряду выделялся молодой рабочий, нёсший знамя. Его руки, чёрные от копоти горна, крепко сжимали древко. Лицо, побледневшее от внутреннего волнения, хранило отпечаток глубокого чувства…
— Товарищи — Марсельезу!
И сразу сотни голосов бросили в морозный сухой воздух зажигающие слова песни.
«Отречёмся от старого мира»…
Было странно, жутко и грустно слышать огненные, полные призыва слова в холодном тумане зимнего дня, среди враждебно притаившейся улицы с её безграмотными вывесками, с самодовольно-аляповатой архитектурой купеческих домов…
— Вставай, поднимайся! — гремела песня.[1]
И казалось, что все эти молодые, смелые, горячие люди, так открыто поднявшие знамя протеста, стучатся в какие-то крепко запертые двери.
Стучатся, но не получают ответа…
…Морозный туман напоминал о сумрачном кошмаре обывательщины, в котором коснел город.
…Море голов на тротуарах вдоль улицы, в переулках, сливалось в одно целое — тупо-равнодушное и мёртвое…
…Марсельеза замолкла. На смену ей поплыли звуки Варшавянки.
…Старый город сторожко и враждебно молчал. Волна новой молодой жизни катилась по его улицам, как по каменистому руслу.
…Где-то вдали глухо раздался сигнальный рожок.
С боковых улиц ему ответил другой…
Толпа любопытных всколыхнулась и отпрянула к стенам домов.
Тротуар опустел — точно ветром смело.
Тревога передавалась от одного к другому.
— Казаки!
Страшное по своему значению слово.
— Казаки… Сейчас атакуют!..
Глава XXII. В тихие сумерки
…После описанных событий прошло несколько недель.
Жизнь города постепенно входила в свою колею.
Итоги первого открытого выступления были очень печальны.
В одиночках местной тюрьмы прибавился не один десяток новых жильцов.
…За городом, на кладбище, появилась свежая могила…
В неё опустили рабочего, который нёс знамя в день демонстрации[2]…
Из членов кружка, близко стоявших к комитету, были арестованы трое.
… Ремневу теперь прибавилось работы. Он отказался от урока в семье Косоворотовых и с головой погрузился в партийные дела…
…Весна в этот год обещала быть ранней…
В начале марта стояли тёплые ясные дни.
…Сильно капало с крыш.
Деревья городского сквера покрылись почками…
По вечерам тянул влажный южный ветер.
…Весна шла.
…Каждый день громыхали поезда, унося на далёкие поля Маньчжурии новые и новые эшелоны…
А навстречу им медленно ползли зелёные вагоны со скорбным знаком красного креста…
* * * *
В эти тревожные, тяжёлые дни в доме Косоворотова жизнь шла по заведённому порядку, который нисколько не был нарушен возвращением старшего сына. Последний, впрочем, и не выходил из отведённого ему флигеля.
Здоровье его, благодаря изменившимся жизненным условиям и лечению, значительно поправилось.
С отцом он виделся редко. Старик Косоворотов был у него всего три раза.
Зато часто навещали сёстры, в особенности Ниночка. Она почти каждый вечер приходила во флигель и подолгу беседовала с братом. Через её посредство он пользовался книгами из городской библиотеки.
…При последнем свидании с сыном старик Косоворотов между прочим сказал следующее:
— Сиди пока во флигеле… Поправишь здоровье, к делу тебя представлю. Разумеется, если захочешь работать… Приказчиком на хлебную ссыпку в село пошлю… При деле-то актёрская дурь скорее из головы выйдет! Поработаешь. На свои кровные денежки костюм справишь… Тогда и в дом милости просим. О старом и поминать не станем. Так-то, сынок!
Антон на это ничего не ответил. Промолчал.
В глубине души он ни на минуту не сомневался, что словам отца не суждено никогда сбыться.
…Шла четвёртая неделя поста.
…Вечером в субботу Антон Константинович долго не зажигал огня. Лежал на кровати и думал.
В открытую форточку вливались жидкие дребезжащие звуки старого надтреснутого колокола. В приходской церкви кончалась всенощная.