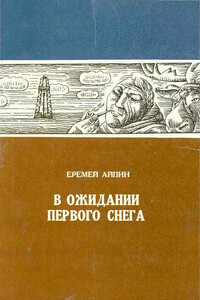— Что ты, что ты, Станислав! — встревоженно проговорила Лиза и скромно подняла на него глаза, но Татьяна уже заметила, как в ее глазах шевельнулся бесенок.
— Начнем, пожалуй, как сказано у Пушкина, — проговорил профессор, и сам первый взялся за нож и вилку.
Стол был убран богато: красовались хрустальные бокалы, рюмки, солонки, чудесные именные тарелки саксонского фарфора, лежали ножи, и тоже всех видов — для мяса, для рыбы, для фруктов. Казалось, сейчас начнется пир, напоминающий былые времена польской шляхты. Но… но на цветистой скатерти поблескивала одна бутылка вина, на тарелке было несколько ломтиков колбасы, на другой — аккуратно нарезанные кусочки черного хлеба, и еще перед каждым на маленьких тарелочках белело по паре яиц. Все это при таком сервизе и таком убранстве выглядело смешно и тоскливо.
Заметя еле уловимое недоумение на лице Татьяны, профессор, искоса глянув на Васю, спросил ее:
— Ваш жених, Татьяна Яковлевна, понимает по-русски?
— Ни словечка.
Станислав Пшебышевский о чем-то подумал и дипломатически тонко произнес:
— Так кормит нас Гитлер: война, — и развел руками, добавляя: — Ничего не поделаешь.
Но Вася, услыхав слово «Гитлер», потянулся к бутылке и с той бесцеремонностью, какую немцы проявляли у побежденных поляков, налил вина в бокалы. Затем, видя, как хозяин недовольно заморгал и даже поперхнулся, Вася поднялся и, тараща глаза, дергая верхней губой так, будто на нее села муха, крикнул:
— Хайль Гитлер!
Все встали, потянулись к бокалам:
— Хайль Гитлер! — как бы чем-то давясь, прохрипел Пшебышевский.
— Хайль Гитлер! — прокричала Татьяна, также как и Вася, тараща глаза.
— Хайль Гитлер! — пропищала Лиза, и тут Татьяна увидела, что бесенок в ее синих глазах прямо-таки привскочил.
Выпив вино, все сели на свои места, и профессор еще больше опечалился. Татьяна украдкой глянула на Васю и кивнула на дверь. Тогда тот вдруг, вцепился руками в виски и проговорил:
— Не могу сидеть: трещит голова. Пойду полежу, — и шумно, будто в кабаке, отодвинув стул, вышел, даже не посмотрев на Станислава Пшебышевского и его Лизу.
После ухода Васи наступила тишина.
Пшебышевский с пребольшим усердием разрезал на тоненькие ломтики краковскую колбасу. От сильного нажатия нож скользил по тарелке и издавал звуки, похожие на мышиный писк. Затем профессор встряхнулся, как встряхивается долго дремавший лев, и заговорил, будто ни к кому не обращаясь:
— Два огня. Один с Запада, другой с Востока. Западный огонь… Не понимаю его смысла: жестокий, оскорбительный. Он уже сжег нашу страну. Восточный? Марксизм? Устаревшая доктрина. А я химик. Я не политик. Я знаю одно: химия нужна всем. Но надо ли всем то, что проповедуют гитлеровцы, или нужен ли всем марксизм?
— А я в нем ничего не понимаю, в марксизме, — прервала профессора Татьяна, — у меня все время было единственное желание — уехать оттуда… из Совдепии. Кстати, тут иные говорят: «Совдепия». Это очень романтично.
— Ага. Романтично, — игривым голоском подтвердила Лиза.
— Исполнилось ваше желание: вы попали в страну, где нет столицы, — профессор еле заметно улыбнулся, затем взял бутылку и, видя, что там вина нет, с сожалением проговорил: — Норма выпита, — и первый вышел из-за стола.
Лиза подбежала к Татьяне, обняла ее за талию и шепнула:
— Позовите своего жениха, и пусть они тут со Станиславом покурят, а мы с вами — в садик. У меня чудесный садик.
Татьяна, пожалев, что ей не удалось более откровенно побеседовать с профессором, позвала Васю и вместе с Лизой через широкую стеклянную дверь вышла в садик.
Садик был игрушечный: тут росли колючие груши, липнувшие к стене особняка, причудливые, извитые яблони, кусты малины, смородины, черемухи. А ближе к каменной стене, сверху и с боков увитая зеленью, стояла кушетка. С разбегу сев на кушетку, включив электрический свет, болтая по-мальчишески ногами и тихонько повизгивая, как будто ее щекотали соломинкой за ухом, Лиза сказала:
— Это мой садик… Ведь он стар.
— Кто? Садик? — спросила Татьяна, видя уже, как бесенок заскакал в синих глазах Лизы.
— Он. Станислав, — зашептала Лиза. — Вы смотрите, нас здесь никто не видит. Я могу раздеться. Я иду вот сюда, в малину, и прячусь. На мне только рубашечка. Он входит, и я появляюсь перед ним — малиновка, — Лиза звонко засмеялась, похлопывая в ладоши.