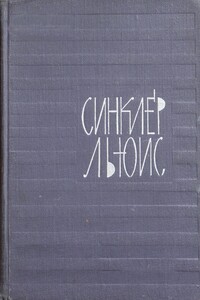В сторону Сванна - страница 8
Когда бабушка после обеда кружила по саду, только одно могло вернуть ее домой; пока она, влекомая по орбите прогулки, снова и снова, подобно мошке, оказывалась перед огнями малой гостиной, где на ломберном столике были выставлены напитки, иной раз двоюродная бабушка кричала ей: «Батильда![14] Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!» И впрямь, чтобы ее подразнить (ведь она вносила в семью моего отца совершенно чуждый дух, и за это все ее вышучивали и изводили), моя двоюродная бабушка угощала деда, которому спиртное было запрещено, капелькой коньяку. Бедная бабушка шла в гостиную и начинала пылко уговаривать мужа не прикасаться к коньяку; он сердился, назло выпивал глоток, и бабушка уходила, печальная, поникшая, но все равно с улыбкой на губах, потому что она была так смиренна духом и кротка, что ее нежность к другим и полное невнимание к собственной персоне и к своим огорчениям примирялись в улыбке, сопровождавшей ее взгляд, и в улыбке этой, в противоположность улыбкам прочих смертных, сквозила ирония, обращенная только на нее саму, а нас она словно целовала глазами, озарявшими тех, кого она любила, горячим и ласковым взглядом — иначе они не умели. Пытка, которую ей устраивала моя двоюродная бабушка, тщетные бабушкины мольбы и ее заранее обреченная на поражение слабость, когда она безуспешно пыталась отнять у деда рюмку, — ко всему этому потом привыкаешь, и даже смеешься, и весело и безоглядно принимаешь сторону гонителя, желая самого себя убедить, что никаких гонений и нет; а в то время подобные сцены приводили меня в такой ужас, что я готов был побить двоюродную бабушку. Но когда я слышал: «Батильда! Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!» — я трусливо, как взрослый, делал то, что делаем все мы, взрослея, когда сталкиваемся со страданием и несправедливостью: я не хотел их видеть; я уходил рыдать на самый верх дома, в комнатку рядом с классной, под крышей, где пахло ирисом, а еще дикой черной смородиной, выросшей снаружи на стене в щели между камней, — ее цветущая ветка тянулась в полуоткрытое окно. Комнатка эта, предназначенная совсем для других, более низменных целей, из которой днем было видно аж до самой башни замка в Руссенвиль-ле-Пен, долго служила мне прибежищем — конечно же, потому, что это была единственная комната, которую мне разрешалось запирать на ключ, чтобы предаваться всему, что требовало нерушимого уединения: чтению, мечтам, слезам и чувственности. Увы, я не знал, что куда сильнее мелких отступлений от диеты, которые позволял себе ее муж, бабушку тревожили мое безволие и хрупкое здоровье и что в них она воображала угрозу моему будущему, когда бесконечно кружила вечерами, чуть клоня набок и поднимая к небу прекрасное свое лицо со смуглыми морщинистыми щеками, которые с годами стали почти сиреневыми, как осеннее вспаханное поле; выходя из дому, она прикрывала их короткой вуалеткой, и на них всегда виднелась непросохшая слеза, исторгнутая не то холодом, не то невеселыми мыслями.