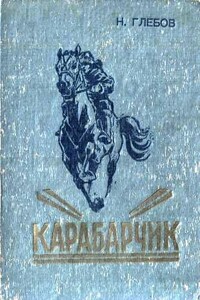— Зайди, Евграф, в исполком. Новый секретарь, Христина Ростовцева, вчера о тебе спрашивала. Помнишь учительницу из Кочердыка?
— А как же, помню, зайду обязательно!
Через час, поднимаясь на крыльцо исполкомовского дома, Истомин неожиданно столкнулся с кривым Ераской. Донковский бобыль был одет щеголевато. В новых кирзовых сапогах, военной гимнастерке, брюках галифе, с перекинутой через плечо полевой сумкой, он был похож на ротного каптенармуса. Только простодушное лицо с козлиной бородкой по-прежнему смотрело на мир с детской доверчивостью.
— Сорок одно вам с кисточкой! — ухмыляясь, Ераска протянул шершавую ладонь.
— Здравствуй, здравствуй, Герасим! — весело заговорил Истомин. — Как она, жизнь-то?
— Лучше всех, — блеснув глазом, Ераска выставил ногу, смотри, дескать, обут, одет — и, помолчав, произнес с достоинством: — Теперь, Евграф Лупанович, я при должности.
— Какой?
— Мы с Федотом Поликарповичем Осокиным трамотом[10] управляем. Он, значит, у меня командиром, а я бумажки разношу насчет мобилизации конного транспорта.
— Ого, ты, оказывается, большим делом ворочаешь, — улыбнулся Евграф.
— А как же, — оживленно продолжал тот. — К слову доведись, потребовалась тебе подвода. Куда сунуться? К нам с Федотом Поликарповичем — мигом коня достанем. Вот только с гидрой плохо, — вздохнул Ераска. — Прихожу прошлый раз к Никите Фирсову. Сам-то старик больной, на ладан дышит. Молодого хозяина не было. Встретил меня их доверенный Никодим Елеонский. Сидит за столом, как бугай, сердитый.
— Бумажка, говорю, вам из трамота, товарищ.
— Стало быть, вы мне — товарищ? — прищурил он на меня глаза: — Вы что, тоже духовную семинарию окончили? Изучали, как ее рит-рит… риторику, будь она неладная, — воскликнул Ераска обрадованно, вспомнив незнакомое слово. — Потом, значит, спрашивает: — Может, вы Гомера знаете?
— Нет, мол, не знаю такого. Был у нас в татарской слободке торговец Гумиров Ахмет, да сбежал. А насчет Гомера не слыхал. А он, контра-расстрига, схватился за бока и давай ржать, как жеребец.
— Забавный ты, говорит, человек. Гомера в трамотских списках потерях, — и опять за свое, — гы-гы, ха-ха!
— Балясы, говорю, точить мне с тобой некогда, а коня представь к девяти часам утра.
Взял у меня бумажку, прочитал, потом поставил ребром на стол и пальцем — чик! Бумажка — на пол.
— Какое ты, мол, имеешь право нашу директиву щелкать? Ежели, говорю, за эту самую бумажку Федот Поликарпович тебя из леворвера может стукнуть, тогда как?
— Уходи, говорит, человече, и без тебя тошно, — махнул рукой, облокотился на стол, уставил глаза в угол и бормочет: — Уподобился я пеликану в пустыне, стал, как филин на развалинах дома сего.
Христину Истомин узнал с трудом. Окруженная крестьянами, приехавшими из соседних деревень, женщина в чем-то горячо их убеждала. Увидев Евграфа, она показала ему взглядом на стул. И как только закрылась дверь за последним посетителем, спросила:
— Как там казаки?
Евграф рассказал о настроении казачества. Одно только беспокоит: идут разговоры о восстании атамана Дутова. Поликарп Ведерников, захватив оружие, уехал с группой зажиточных казаков неизвестно куда. В Зверинской на заборах появились прокламации дутовцев. В степи неспокойно.
В первых числах июня с железнодорожной станции в Марамыш прискакал вестовой, забрызганный грязью, от усталости едва держась в седле. Повернул коня к городской площади и, узнав, где уком, галопом помчался по улице. Кинув поводья, он соскочил с седла и поспешно поднялся на крыльцо.
— Вы председатель уездной парторганизации? — спросил он Русакова.
— Да.
Незнакомец прикрыл за собой дверь и в упор посмотрел на Григория Ивановича.
— Чехи захватили власть в Челябинске и Зауральске. Большой отряд белогвардейцев двигается на Марамыш.
В кабинете наступила глубокая тишина. Тикали на стене ходики. В раскрытое окно из палисадника доносилась шумная возня воробьев. Русаков поспешно взял трубку телефона.
— Соедините с председателем исполкома! Федор, ты?
Русаков распорядился собрать по тревоге всех пеших и конных милиционеров, руководящих работников. Собрание коммунистов города было коротким.