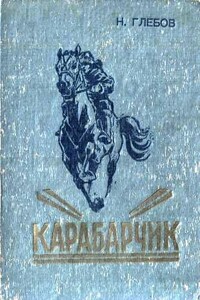Никита Фирсов полностью завладел мясным рынком Зауральска.
На фасаде большого двухэтажного дома красовалась вывеска: «Торговый дом — Фирсов, сыновья и К°». В числе компаньонов был Бекмурза Яманбаев, хозяин лучших пастбищ Тургайской степи. Тысячные гурты скота шли к железнодорожным станциям и отправлялись в Москву, Петроград и на фронт. Прибрав к рукам заимки и леса Дарьи Видинеевой, Никита подумывал захватить целиком и мощный мясопромышленный комбинат датчан.
Мартин-Иоган Тегерсен сделал официальное предложение Агнии. Никита Захарович для вида поломался, но в душе был рад предложению богатого датчанина.
Видя расположение дочери к «козлу Мартынке», как он мысленно называл своего будущего зятя, Никита Захарович потирал руки. «А Брюля и так спихнем», — думал он.
Сергей к замужеству сестры отнесся равнодушно. За последнее время он стал частенько выпивать, колотил Дарью.
Василиса Терентьевна горевала о судьбе дочери. До свадьбы она нет-нет, да и спросит:
— Ну зачем он тебе? Штейер-то лучше…
— Ну, — отмахнулась беспечно Агния. — Со Штейером — фи! Мартин Иванович обещал после войны съездить со мной за границу. Посмотрю Париж, послушаю оперу, а потом на воды в Карлсбад. А что интересного в нашем городишке?
Мать вздыхала и молилась, но успокоения не находила.
«Уж лучше бы жить с Никитой в бедности, чем в теперешнем богатстве, — размышляла она. — Бывало, выпьет он тогда, придет такой ласковый да добрый. А сейчас — настоящий стратилат. Правда говорится, что через золото слезы льются. Вот и Сереженька стал неладно жить. Одна надежда на Андрюшеньку… Вернется со службы, уйду к нему…»
…Однажды, возвращаясь из Тургайской степи через станицу Зверинскую, Сергей заметил впереди идущую женщину. Босая, подоткнув слегка подол, она несла в одной руке туес, во второй узелок.
Поравнявшись с ней, Сергей изменился в лице. Ткнул поспешно в спину кучера:
— Жди у озера, — и выпрыгнул из тарантаса. — Устинька!
От неожиданности та выронила туес из рук, молоко ручьем хлынуло в колею.
— Сергей Никитович! — Устинья, часто дыша, в смущении поправила подол домотканой юбки.
Молодой Фирсов сделал попытку обнять ее, но Устинья сильным движением оттолкнула его:
— У меня муж на войне, Сергей Никитович, — побледнев, произнесла она гордо.
— Да неуж ты все забыла? Устинька! Знаю, я виноват, — произнес он горестно. Помолчав, сказал глухо: — Может, мне белый свет не мил, может, тоскую по тебе, а ты встретила меня, как недруга…
У Устиньи перехватило дыхание. Собрав волю, она твердо сказала:
— Видно, богатство было дороже тебе слез моих девичьих. Теперь пеняй на себя, поезжай к своей Дарьюшке, заласканной старым муженьком.
— Устинька, пожалела бы меня, чем говорить такие слова! — крикнул он надрывно.
— А ты меня жалел, когда целовал постылую? Уйди с дороги, не мучь! — вырвалось у ней. Схватив пустой туес, Устинья быстро зашагала к покосу.
Сергей кинулся за ней, свалил с налету в густой ковыль и прижал к земле.
Устинья вывернулась. Сильный удар в лицо оглушил Фирсова. Женщина бросилась бежать. Шатаясь, Сергей поднялся с травы и, пнув туес, не оглядываясь, побрел к дороге.
Лупан отложил молоток, которым отбивал литовки, покосился на молодуху.
— Что за тобой черти гнались, что ли, запыхалась? — спросил он подозрительно.
— Торопилась, тятенька, поспеть к обеду, — подавая узелок с хлебом, сказала Устинья. — Так торопилась, что и молоко забыла взять.
— Ну и память у тебя, девка, — покачал головой Лупан и занялся своим делом. — Крупы принесла?
— В мешочке с хлебом лежит, — ответила Устинья. Войдя в шалаш, обхватила руками горевшие щеки, долго стояла не шевелясь.
Сгустились тучи. За Тоболом погромыхивало.
Щурясь от солнца, Лупан поглядел на небо и стал торопить косарей, которые шли последний прокос.