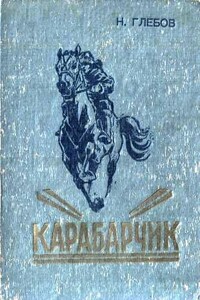С любовью шлю низкий поклон твоему супругу Евграфу Лупановичу. Еще кланяюсь твоему свекру Лупану Моисеевичу с супругой. Еще велел передать тебе привет Федот Поликарпович. Служит он в Балтийском флоте и плавает недалеко от нас.
Посылаю тебе карточку, снялся с Осипом.
Остаюсь жив-здоров, твой братец Епифан Елизарович Батурин».
Вот он, братец, Епиха. Не узнать. Бравый, красивый. Солдатская фуражка — набекрень. Глядит сурово. Руки по швам. Голову держит прямо. На погонах лычка ефрейтора. Рядом — хмурый Осип. «Эх, Оська, Оська, разошлись, видно, наши пути-дороженьки и не сойдутся. Сердце не приневолишь!»
Вспомнила Устинья Сергея, сурово свела брови: «Обернулся сокол коршуном, ранил душу девичью, променял любовь на золото. А я-то верила! — молодая женщина поникла головой: — Оберег меня человек… Григорий Иванович…» — вздохнув, Устинья положила карточку в конверт.
Евграф приехал около полуночи. Устинья зажгла лампу, поставила на стол кринку молока, стаканы и хлеб. Муж к еде не притронулся.
— Собирай завтра с утра на царскую службу. Приказ от наказного атамана есть, — сказал он.
Дня через три Евграф Истомин, простившись с семьей, выехал в Троицк.
А еще дня через два, уложив на телегу литовки, грабли, вилы и захватив с собой пришлого бобыля — кривого Ераску, Устинья со свекром выехали на покос.
Кривой Ераска, несмотря на горькую нужду, был неунывающий мужичонка, с реденькой мочальною бородкой, небольшого роста, балагур. Все его имущество состояло из ветхой избушки, старого заплатанного армяка, больших бахил и заклеенной во многих местах варом самодельной балалайки. Лупан всю дорогу косился на завернутую в старый мешок Ераскину «усладу», которая лежала вместе с граблями, но поденщику ничего не сказал.
Над степью поднималось солнце. Пахло полынкой, медоносами и тем особенно густым запахом разнотравья, который бывает только в степях Южного Зауралья. Пели жаворонки. Недалеко от дороги, поднявшись из густой травы, тяжело размахивая крыльями, пролетела дрофа.
Лупан завертелся на телеге, разыскивая ружье. Пока он его доставал из-под Ераскиной «услады», птица скрылась за кустами тальника.
Старый казак с досады ругнул поденщика:
— Чем балалайкой трясти, лучше бы дробовик завел, гляди, какого дудака упустили. Обед был бы.
Беззаботный Ераска ухмыльнулся.
— Ну, какая беда. Был дудак, да улетел, — размотав мешок с «усладой», он подвинтил колки и ударил по струнам:
Поп попадью ругал за кутью… —
запел он скороговоркой.
Устинья улыбнулась.
— Ну, лешак тя возьми, мастер ты играть, — повернулся к нему Лупан.
— А я и ваши казачьи песни знаю.
Настроив балалайку, Ераска прокашлялся.
…Уж ты доль, моя долинушка,
Ты раздольице, поля широкие,
Ничего ты, долинка, не спородила,
Спородила, долинка, высокий дуб…
Протяжная песня понеслась над луговиной и замерла в береговых камышах.
Косари подъехали к старому шалашу, когда солнце было уже высоко. Ераска стал выпрягать лошадь, Лупан пошел смотреть старые отметины. Устинья вымела из шалаша прошлогоднюю траву и стала готовить обед. Свекор вернулся хмурый: часть покоса, который примыкал к реке, выкосили работники Силы Ведерникова.
«Мало ему своего, так на чужой позарился», — подумал Лупан про богатого станичника и, усевшись недалеко от шалаша, стал отбивать литовки.
Первый прокос прошел Лупан. За ним махал литовкой Ераска. Следом шла Устинья. На пятом заходе старый казак устал. Уморился и слабосильный Ераска. Одна лишь Устинья не чувствовала усталости и нажимала на тщедушного балалаечника.
— Наддай, Герасим, а то пятки срежу! — кричала она задорно. Он пугливо озирался на жвыкающую за спиной литовку.
Поужинав, Ераска взял свою «усладу» и подвинулся к огню. Устинья, собрав посуду, подбросила хворосту и, глядя, как тают, взлетая, искры костра, задумалась.
Лупан, свернув по-казахски ноги, чинил при свете костра шлею.
— Ты лучше сыграй опять нашу, казачью, чем разводить трень-брень, — сказал он.
— Можно, — согласился музыкант. — Я, Лупан Моисеевич, не только казачьи, но и татарские и хохлацкие песни знаю, — похвалился он. — Какую тебе?
— Давай про «Разлив», — кивнул головой старик.