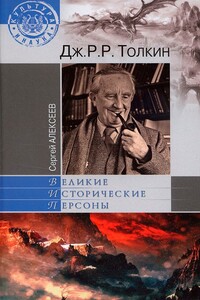Отличалось мое пребывание в Свердловске не голодом, а возможностью интеллектуального общения. По существу, я там быстро стал членом дружного коллектива молодых интеллектуалов, то есть хоть я так тогда не формулировал, я получил все, за чем ездил, в чем тогда нуждался.
Люди, которые населяли комнату, в которой меня поселили, все потом стали так или иначе известны в своих областях. Хотя иных уж нет, а те, как и я, — далече. Жили там искусствоведы Саша Каменский (имя, не нуждающееся в рекомендации) и Дима Сарабьянов (будущий директор Института истории искусств АН СССР). Знакомство с ними расширило мой кругозор хотя бы потому, что до этого я вообще не знал, что бывают искусствоведы. Остальное население комнаты составляли литературоведы (историков и философов почему-то не было). Это прежде всего Леша Кондратович, вскоре он должен был уходить и, по-моему, при мне еще ушел в армию (в будущем ответственный секретарь «Нового мира» при Твардовском А. И. Кондратович), затем — Володя Гальперин (будущий профессор Щукинского училища) и совершенно удивительное для меня тогдашнего существо, Митя Сеземан, до ИФЛИ учившийся в Сорбонне.
О том, как он попал в СССР, мне потом приходилось читать. Кажется, его отец профессорствовал в одном из университетов «освобожденной» Прибалтики, но об этом тогда речи не было. Остальные наверняка давно это знали, а мне неудобно было спрашивать. Он мне очень нравился, но так вышло, что он единственный из всех пятерых, кого я потом ни разу не встречал. Не по неприязни, а просто «вступая в жизнь, мы быстро разошлись». Впрочем, однажды я его все-таки видел, а Париже, во время эмиграции — для него вторичной. Видел, но почему-то не подошел. Прежде всего, мы не узнали друг друга, мне просто, к слову пришлось, сказали: «Вот профессор Дмитрий Сеземан, недавно эмигрировал», а ему и того не сказали. Знакомство наше было столь кратким, а не виделись мы так давно, что представление требовало объяснений. А мне было не до них. Но это никак не определяет моего отношения к нему. Конечно, я не знаю, сошлись ли бы мы теперь, но воспоминания у меня о нем остались самые светлые. Он был, повторяю, наиболее обращающим на себя внимание представителем нашей комнаты. Жило в ней еще несколько студентов, но из них я помню только Пашу, которого встретил первым, а может, другие не ассоциируются у меня в памяти с этой комнатой.
Помню, как Митя Сеземан с книгой в руках расхаживает по комнате и декламирует:
— О, Ватерлоу!.. (Дальше забыл.)
В комнате в связи с этим произносится с уважением — особенно почему-то Сашей Каменским — имя поэта Леопарди, из его ли стихов эта строка, я до сих пор не знаю. Заходят и другие студенты, в том числе и физик Боря Смагин (потом он станет писателем-фантастом Днепровым). От него я впервые узнаю, что, оказывается, профессия физика важна для обороны. Меня это удивляет. Я понимаю: инженеры, но при чем тут физики? Конечно, и инженеры учитывают всякие законы физики: Бойля — Мариотта, Ома и прочих, но сами физики тут на что? Они свое дело сделали. Впрочем, тут мое восприятие соответствует всеобщему представлению, уничтожающий удар по которому нанесло только изобретение атомной бомбы. А тогда в разложение атома, а тем более ядра, верили не больше, чем в Perpetuum mobile, и не атомную бомбу имел в виду Боря Смагин. Физикам тогда находилось применение и без атома. Как я потом узнал, однокашником Бори Смагина по физфаку МГУ и тогда в Свердловске был Андрей Сахаров. Так же где-то ходил и где-то обедал, но к нам в комнату не забредал — по видимому, тогда он еще никакими Леопарди и прочей неточной гуманитарщиной не интересовался, и с ним я не был знаком.
Какие у нас были тогда разговоры? А такие же, как и с моим случайным попутчиком — откровенные и относительные. Последнее потому, что относителен был мир наших ценностей. Конечно, говорили много о литературе, о поэзии. Прямого содержания их не помню. Ведь сегодня я об этом думаю совсем не так, как тогда. Ни эстетическая левизна, ни романтика меня давно нисколько не прельщают. Давно, а не только теперь, по старости. Тогда же мы этим жили, верность этому хранили среди будничной грубости окружающего бытия. И поэтому я помню это общее дружеское взаимопонимание, а не отдельные мысли, свои в том числе.