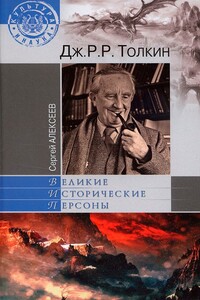— А почему к нам?
На этот вопрос я ответить ничего не мог.
Не надо делать поспешных выводов, никакого антагонизма по отношению к философам в этой среде тогда еще не было. Просто парень желал избавиться от постороннего. Постепенно, но довольно быстро стали накапливаться его товарищи. Узнавая от него, кто я такой и зачем пожаловал, они по мере накопления становились все агрессивнее. И настаивали, чтоб я выметался — у них и так полно. Я стоял рядом со своей злополучной корзиной (она за мной потом следовала в Москву, тюрьму и ссылку) и не знал, куда деваться и где приткнуться. Между тем аборигены, то ли забыв о нахальном вселении нежелательного провинциала в их жилье, то ли смирившись с неизбежностью, стали продолжать прерванный, более интересный для них разговор между собой. Неожиданно он оказался интересным и для меня — я услышал знакомые имена. Мир моих интересов опять обретал реальность. И я вмешался в их разговор:
— Ребята, а вы из ИФЛИ?
— Да, а что? — насторожились «ребята», но насторожились уже более дружественно. Раз юноша знает, что такое ИФЛИ, он еще может и представлять интерес.
— А вы не знаете Юдина или Люмкиса?
Оказалось, что прекрасно знают. Что Толя на фронте, а Люмкис тоже должен жить в этой комнате, но сейчас, как и многие другие студенты, — на торфоразработках. Скоро приедет на день.
— А ты что, тоже из Киева? А ты стихи Бердичевского знаешь?
И стали мне читать новые стихи Марка, которых я не знал.
Ларчик открывался просто. Знали они их от Люмкиса. А тот получил их в письмах, непосредственно от автора, с которым переписывался. А Марк учился в военно-воздушном училище сравнительно недалеко от Ашхабада, где недавно еще находился ИФЛИ. Это, наверное, облегчало их переписку. Стихи Марка здесь всем нравились, в них был нерв тогдашнего состояния. Мне эти стихи тоже очень понравились.
— А ты что, стихи пишешь? — спросил кто-то, поняв, что я из той же компании. — Прочти.
Стихи мои тоже произвели впечатление. Приняли. И пошло сближение. Кто-то сказал, что в стихах тех, чьи города оккупированы, есть особая струнка, кто-то еще что-то, разговор о том, чтоб мне выметаться из комнаты, испарился сам собой, — наоборот, мне стали наперебой предлагать помощь в обустройстве, что для такого лопуха, каким был я, было отнюдь не лишним. Конечно, не ахти какое это было обустройство, все спали на матрасах, но и у меня появился свой матрас. Кроме того, что немаловажно, мы вместе добывали пропитание, и я впервые столкнулся со студенческой, а тут и с якобы богемной лихостью на этот счет.
Голодны мы все были очень. Одно из последних моих свердловских впечатлений — столовая, где один знакомый парень, кажется искусствовед (он был не из нашей комнаты, но круг моих знакомых к тому времени расширился), испытывая гамлетовские сомнения, собирался подойти к раздаче и обменять мастерски подделанный им талон из хлебной карточки на реальные двести грамм хлеба — деяние, по тем временам жестоко наказуемое и несколько оскорбляющее мой ригоризм. Я его больше никогда не встречал, отзывы о нем в последующие годы были неизменно хорошими, ни в чем дурном он никогда замечен не был. Но был широкоплечим крепким парнем, которому очень не хватало хлеба, и потому он осуществил тогдашнюю платоническую мечту многих, очень талантливо выраженную Николаем Глазковым:
Что стихи? В стихах — одни слова.
…Мне бы кисть великого художника!.. —
Карточки тогда бы рисовал —
Продовольственные и хлебные,
Эр-четыре и У-Дэ-Пэ.
Не могу сказать, чтобы ему завидовали, относились к этой проделке скорее смущенно-иронически, чем апологетически. Но на его стороне были, накладываясь друг на друга, общебуршеская, она же бурсацкая, традиция поведения и дружества студентов, традиция футуристических выходок (Маяковского и его желтую кофту тогда все еще уважали) и, конечно, — голод.
Этому эпизоду я отдал дань не по его значительности, а ввиду красочности этого воспоминания: меня до сих пор смешит сосредоточенное лицо этого парня, подавляющего последние колебания и страхи перед тем, как решиться и перешагнуть нечто, вполне способное его погубить, но отнюдь не способное стать его Рубиконом. Но когда я думаю об этом, мне уже не смешно — нельзя испытывать людей голодом. Но не этим эпизодом и не голодом отмечено мое пребывание в Свердловске. Жили мы, конечно, впроголодь, но что-то все же ели — в конце концов все вокруг, да и я сам в Симу, жили немногим легче.