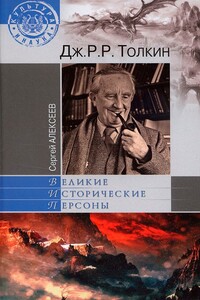Потом мы говорили о перспективах войны. Немцы ведь еще стремительно наступали. Люмкис в ближайшее время собирался идти в армию. Как известно, он пошел и погиб. Но перспективы ему рисовались с нашей тогдашней точки зрения самые мрачные. Нет, он не сомневался в поражении Гитлера. Но лишь потому, что выручат союзники. А коммунизму и советской власти при этом придет конец. Сегодня любой из нас сказал бы: его бы устами, да мед пить! Но тогда такая перспектива очень нас огорчала, отнимала смысл жизни, Маяковского, весь «штурм унд дранг», на котором мы были воспитаны и существовавший только в нашем воображении. И который нам обоим по складу наших душ был, как корове седло. Несмотря на мою тогдашнюю манеру выражаться темпераментно…
Конечно, эта беседа, эти строки, приписываемые Павлу Когану, и мое согласие идентифицировать их с собой тогдашним открывают дорогу для непонимания и демагогии, с которой я уже отчасти столкнулся. Но для непонимающих — чтобы они поняли, что их путавшиеся в трех соснах отцы и деды не были ни подлецами, ни идиотами — я и пишу эту книгу. Понять, как это было, нормальному человеку пока еще, к счастью, трудно. Но по многим причинам — необходимо. А от демагогических ухищрений и наскоков вообще защиты нет, как не было никогда, и ориентироваться на них при изложении фактов — значит самому подвергать себя самой глупой из цензур. Так что будем жить по принципу: «собака лает, караван идет» — в твердом убеждении, что скоро эта волна демагогии сменится другой, еще более новой, а пройденный путь останется пройденным путем.
Однако разговор, который в тот погожий, но уже холодный осенний день 1942 года в Свердловске вели между собой, обрадовавшись друг другу, двое киевских юношей, ошметки разметанной войной молодежной компании, с сегодняшней, да и вообще с любой нормальной точки зрения, был действительно странен.
Но странностей в этих юношах вообще было много. Они ведь знают, эти мальчики, что город этот не Свердловск, а Екатеринбург, тот самый, где когда-то расстреляли всю императорскую семью — с детьми и обслугой, — но они об этом не думают, хотя гнусность этого преступления — вместе с детьми — наглядна, особенно теперь, после Бабьего Яра. Этот город для них Свердловск, то есть носит имя одного из инициаторов этой гнусности, к нему они оба, правда, мало о нем зная, относятся хорошо, даже с некоторым полукрамольным противопоставлением — как к представителю «старой гвардии».
А ведь они не подлецы, эти мальчики. И не дураки, хотя у них в чем-то мозги набекрень. И не к худшим, а к лучшим представителям молодой интеллигенции они относятся. Своей любовью к «старой гвардии» они защищаются от растворения в подлости. Как верностью мировой революции — от растворения в бессмыслице сталинской пропаганды. Конечно, когда знаешь цену этой «гвардии» и подлость революционного насилия, становится горько на душе. Ведь по-человечески и мне, и Люмкису, и всем ребятам-ифлийцам, и Павлу Когану претит насилие. Мы считаем это чистоплюйством, недостойной мягкотелостью, но оно нам претит. Мы были жертвами не своей, а чужой ублюдочности, и мы запутались в ее оттенках. Наша способность к высокому была утилизована ублюдками — расстреливающими и расстрелянными, и мы запутались в коллизиях и оттенках этой ублюдочности. Потом постепенно — кто раньше, кто позже — мы начнем освобождаться от ее чуждой нам власти.
Но Люмкис до этого так и не доживет… И почему-то именно об этом мне больней всего думать в связи с его и таких, как он, ранней гибелью — что они так и погибли, не узнав, не освободившись хотя бы внутренне…
Вряд ли мы стали счастливыми, узнав это, особенно те, кто узнал это только среди сегодняшнего беспредела, но не знать обыкновенной шкалы нравственных ценностей, будучи при этом по природе нравственными людьми, пусть и не совершая безнравственных поступков, — несчастье. Мне жаль в этом смысле своих погибших друзей, тех, кого знал и кого не успел узнать, — они были достойны лучшей участи.
Больше я Люмкиса не видел никогда.
В Свердловске я случайно наткнулся на своего киевского одноклассника Володю Левицкого. Он жил здесь с отцом и матерью. Отец преподавал в здешнем сельхозинституте, Володя учился в том самом Уральском индустриальном институте, в помещения которого вселился, потеснив его, МГУ. Жили они очень скудно.