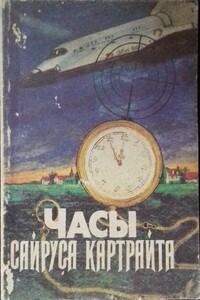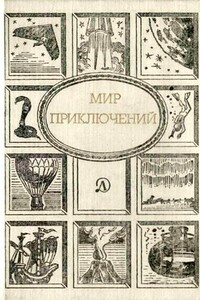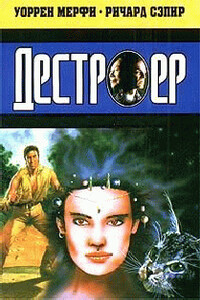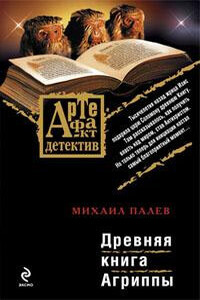Он был именно таким, как описывала Гитель. Высокий, загорелый, уверенный. Джонатана он сразил наповал — форма, ботинки, берет и, конечно же, кобура с пистолетом. Знакомясь с рабби, он пожал руку, но Мириам крепко поцеловал в губы.
— Красивую девушку надо целовать как красивую девушку, — объяснил он. — Ты не возражаешь, Дэвид?
С матерью он обращался так, словно видел ее час назад. Из уважения к Мириам он говорил по-английски, с сильным акцентом, слова, казалось, шли из горла.
— Хорошо провела время на конференции?
— На конференцию ходят не ради хорошего времяпрепровождения.
Они не поцеловались и не обнялись; только жест собственника, которым она сняла какую-то пушинку с его куртки и разгладила складку на плече, указал на их родство.
— А зачем же? Ты что, чему-то учишься там? Они могут тебя научить?
Мириам он объяснил:
— Она встречает там всех своих старых друзей — из Иерусалима, из Хайфы, даже из Тель-Авива. Многих, кто живет с ней в одном городе, ей удается увидеть только на этих конференциях.
Гитель держала себя с сыном сухо и тщательно скрывала гордость, с которой рассказывала о нем Мириам. Она обращалась к нему со снисходительной иронией, но при упоминании о его девушке иронию сменил откровенный жесткий сарказм. А он отвечал терпимо и добродушно, но иногда вдруг взрывался и переходил на иврит — то ли, чтобы поточнее выразиться, то ли не желая обидеть Мириам.
— Ее отец не разрешил ей прийти, потому что здесь может быть не кошерно?
— Послушай, я это сказал, потому что не хотел спорить с тобой. На самом деле это я был против.
— Ага, ты не хотел познакомить нас? Может, ты стыдишься своей матери?
— Не переживай. Ты с ней познакомишься. И Мириам с Дэвидом тоже, надеюсь. Но не все вместе, по крайней мере, не в первый раз. Потому что ты что-нибудь скажешь, и мы начнем ссориться. А я не хочу испортить шабат Дэвиду и Мириам. Она хотела прийти, но я отговорил.
— Может, пойдем к столу? — мягко предложил рабби.
Они стояли за стульями, пока рабби нараспев читал «Кидуш». Ури сменил берет на черную шелковую кипу. Гитель промолчала, только неодобрительно поджала губы. Когда все уселись, она спросила:
— Этот кусочек шелка священнее чем твой армейский берет? Или он лучше закрывает голову?
Ури добродушно улыбнулся.
— Когда хоть ненадолго избавляешься от формы, чувствуешь, что действительно в увольнении.
— Этот аргумент твоя девушка понимает лучше, чем я. Вы сегодня виделись, я думаю.
— Да, мы с Эстер встретились, — вызывающе сказал он на иврите. — Немного подизенгофили в парке, а потом я приехал сюда на попутке. Что из этого?
Рабби навострил уши.
— Дизенгофили? Что это значит — дизенгофить?
Ури рассмеялся.
— Этому ивриту тебя не научат в иешиве, Дэвид. Это армейский слэнг. В Тель-Авиве есть большая, широкая улица с кучей кафе, улица Дизенгоф. Ребята просто гуляют там с девушками. Так что подизенгофить значит прошвырнуться со своей девочкой.
— Как ты понимаешь, Дэвид, с матерью не подизенгофишь, — сказала Гитель. — Удивляюсь, что ее отец не настаивал, чтобы ты пошел с ним в шул, а то и к Стене.
— Он приглашал, и я бы пошел, если бы не поехал сюда. Он не ходит к Стене. Он ходит в маленький шул в Квартале[56], мне нравится там.
— Он предпочитает шулы, мой сын. Он становится настоящим раввином. Каждый день он налагает филактерии и молится…
— Ну и что? Ты завязываешь нитку на палец, и это напоминает тебе о чем-то. Так что плохого, если я навязываю один ремешок на руку, а второй на голову?
— О чем это должно тебе напомнить?
Он пожал плечами.
— Не знаю. Например, о том, что когда я один в карауле, может оказаться, что я не один. Есть шанс поймать пулю снайпера или наступить на мину. Не хочется думать, что это только вопрос удачи, что если бы не сделал один лишний шаг, этого не случилось бы. Лучше думать, что существует что-то большее, частью которого я являюсь, и даже моя смерть является его частью. Смотри, все эти штуки, свечи, вино, халы, вся идея шабата — это красиво. Может ли что-то быть красивым и не иметь никакого смысла? Ты сама зажигаешь дома свечи.
— Шабат не религия. Это главный социологический вклад, который мы сделали.