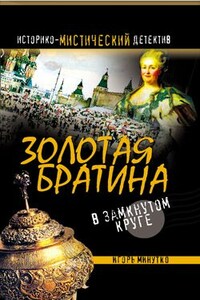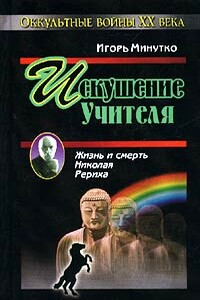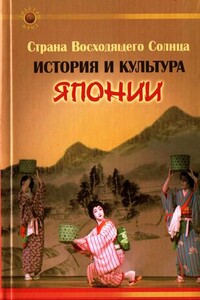— Окстись, Евдокия! — угомонил сестру Семён Воронков, освобождая от цепкой руки женщины ухо товарища, вмиг покрасневшего. — Не дома, в обчественном месте. — И миролюбиво добавил: — Нет, Прохор, ишо глядеть будем, за кем идтить...
И все трое молча продолжали чаепитие.
А к столу, за которым сидели Григорий и Ольга, в сопровождении хозяина трактира подходил высокий человек лет сорока пяти в безукоризненном тёмном костюме-тройке, с галстуком, скреплённым брошью; интеллигентное, волевое лицо, густая копна седеющих волос, внимательные, глубокие серые глаза, во всём облике — напряжение, скрытое полуулыбкой.
— Вот-с! Вас ждут-с! — Соборнов отодвинул стул.
— Спасибо, любезный! — Пришедший, отбросив в стороны фалды пиджака, сел. — Добрый вечер! И за опоздание извините. На Киевской ни одного извозчика. — Он повернулся к Соборнову. — Раз уж аудиенция здесь... Немного водочки и что-нибудь закусить.
— Слушаюсь!
— А нам чая и бубликов, — сказал Каминский.
— Один момент-с! — Хозяин трактира бесшумно исчез.
Возникла неловкая пауза.
— Да! — спохватился Григорий. — Я же вас не представил. — Прокофий Николаевич Мигалов. А это Оля... Ольга Розен.
— Гимназистка второй женской гимназии! — с вызовом сказала Ольга.
— Весьма рад. — Мигалов еле заметно усмехнулся. — Новые времена: гимназистки в трактирах...
— И на демонстрациях! — перебил Каминский.
— Да, да... — Прокофий Николаевич отбил по краю стола дробь длинными белыми пальцами. — На демонстрациях. — И он вдруг продекламировал нараспев: — «Юноша бледный со взором горящим! Ныне тебе я даю три завета... Первый завет: не живи настоящим...»
— «Только грядущее область поэта»? — подхватил, перебив, Григорий. — Прокофий Николаевич, если вы предложили встречу для того, чтобы я выслушивал...
Мигалов протестующе замахал руками:
— Что вы! Что вы! Простите великодушно! Просто не могу преодолеть... Чёрт знает! Некоторой робости. И — не могу скрыть: вы для меня — загадка. С самого начала. Я был на женском митинге, когда состоялось, так сказать, первое явление народу...
— Это было замечательное явление! — перебила Ольга и — смутилась: румянец залил её щёки.
— Не спорю, замечательное. — Прокофий Николаевич с понимающей улыбкой посмотрел на девушку, Ольга смутилась ещё больше; Мигалов повернулся к Григорию. — Потом я вас много раз слышал на всяческих митингах. Невероятно! За месяц в Туле воссоздана большевистская организация, и во главе большевиков — студент! Ведь вы студент?
— Бывший студент.
— Бывший студент... — повторил Мигалов. — Тот факт, что вы незаурядный, талантливый человек, господин Каминский, чувствуется сразу. Я увидел в вас страстного, умного гражданина новой России, искренне желающего блага обществу, преданного революции...
— Позвольте уточнить, — перебил Каминский, — социалистической революции!
И тут у стола появились двое: молодой половой с самоваром в одной руке, с чашками и тарелкой с сероватыми бубликами в другой — то и другое на подносах. А хозяин трактира ставил перед Мигаловым гранёный штоф водки, тарелку с квашеной капустой, другую — с варёной картошкой и жирной селёдкой, посыпанными бледно-фиолетовыми дольками репчатого лука, ворковал:
— Прошу-с! Закусочка, уж извините — революция...
— Спасибо, голубчик! — Прокофий Николаевич потянулся к штофу. — Разберёмся.
— Приятного аппетита и доброй беседы-с!
Соборнов и молодой половой, за всё время звука не проронивший, ушли.
— У меня есть тост! — бодро сказал Мигалов.
— Я не пью алкоголь. — Каминский стал разливать чай по чашкам. — Мы вот чайку. Оля, вы не против?
— С большим удовольствием! — Ольга уже откусила бублик. — Хоть и из плохой муки, а тёплые, недавно испекли.
— Ладно, — вроде бы вздохнул редактор газеты «Свободная мысль». — Тогда я, с вашего позволения, в одиночестве. — Он налил себе рюмку водки. — Словом, так... Страна идёт к выборам Учредительного собрания, созыв которого назначен на ноябрь сего года. В нём будут представлены все партии России. Впереди первые в российской истории демократические выборы. И мой тост краток: за демократию в России!