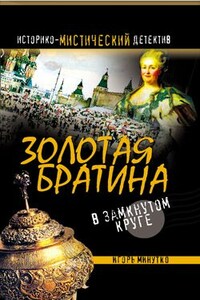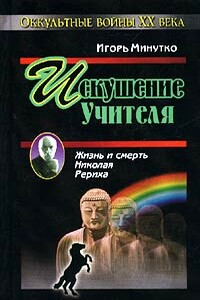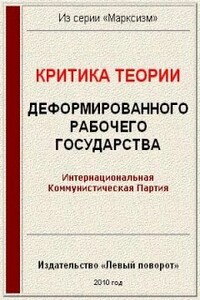— Два часа сорок пять минут, — сказала я. — Тебе отдали своё время в прениях семь наших товарищей.
Гриша засмеялся:
— Здорово мы всех этих Дзюбиных...
И тут я выпалила... Правда, правда: это меня мучило ещё в зале Народного дома. Я сказала:
— Значит, меньшевиков и эсеров в Совете мы попросту обманывали, дурачили?
— Дурачили? — Он даже остановился. — Ладно, пусть так! — И голос его стал жёстким, непримиримым. — Но что нам оставалось делать? Если они против отправки оружия в Москву! Пойми, Оля, на календаре истории — пролетарская революция! В Москве наше вооружённое восстание задыхается без оружия. Неужели ты не понимаешь, что у нас просто не было другого выхода?
— Понимаю... — неуверенно сказала я.
Гриша, похоже, даже не услышал меня: он сделал несколько стремительных шагов вперёд, остановился, подбежал ко мне, обнял за плечи. И у меня закружилась голова — от восторга, от счастья.
— Очутиться бы сейчас в Москве! — воскликнул он. — Как ты думаешь, наше оружие...
— Из него уже стреляют, — перебила я, освобождаясь от его рук.
Никак я не могу победить в себе этих приступов обиды. Ведь понимаю: для него главное — революция, можно сказать, смысл жизни. И — хоть убейте! — всё равно ревную его к революции! Идиотка какая-то...
А Гриша ничего не заметил!
— Да! — возбуждённо, даже как-то лихорадочно сказал он. — Уже стреляют! Оля, ты осознаешь, что эта ночь — историческая?
— Осознаю, — подтвердила я, стараясь проникнуться этим чувством: вокруг нас — историческая ночь.
Гриша засмеялся, сказал торжественно, даже театрально:
— В эту ночь в Туле светит большая луна, обыватели спят и не ведают... — Он заглянул мне в глаза. — Твои тоже спят?
— Конечно! — ответила я, представив сонное царство в своём доме. — Давно спят и видят сны про свою блудную дочь. А может быть, не видят. — Порыв, который я не смогла сдержать, толкнул меня: я провела рукой по его щеке. — Ты замёрз... — Щека была холодной. — Пора. Твои тоже спят?
— Наверно! — Гриша засмеялся. — А дядя храпит. У него храп! Во всех комнатах слышно. — И тут он как-то странно огляделся по сторонам. — Постой! Почему мы здесь?
— Где здесь? — спросила я, и сердце моё яростно заколотилось в сладостном и страшном предчувствии неизбежного.
— Понимаешь, Оля... — Я чувствовала: он тоже ужасно волнуется. — Ведь у меня и второй дом есть. Мы оказались... Тут рядом штаб нашей красной гвардии. Бывший полицмейстер сбежал, бросил свои апартаменты. Вот мы и обосновались. Часто приходится поздно возвращаться... Каждый раз своих беспокоить... Вот я...
— Идём! — перебила я, взяв его за руку. И в лунном небе протрубили трубы. Трубы нашей судьбы. — Идём!.. — повторила я.
— Куда? — прошептал он.
— К тебе! — сказала я.
— Но, Оля... — Мне. почудилось, что Гриша хочет высвободить свою руку.
— Идём, идём! — Я уже сама вела его вперёд.
...Мы очутились возле тёмного кирпичного дома. У крыльца стоял солдат с винтовкой. Он молча козырнул Грише, едва покосившись на меня без всякого удивления.
Загремел ключ в скважине замка, дверь распахнулась, и тёплая темнота поглотила нас.
— Осторожно, тут четыре ступени. — Теперь он вёл меня. Коридор был застелен ковром, в нём утонули наши шаги. — Теперь сюда.
Открылась дверь. И мы оказались в большой комнате с тремя окнами, и как раз в среднем из них стояла светло-голубая луна, уже клонившаяся к земле.
— Сейчас... — Гриша выпустил мою руку. — Света, конечно, нет. Керосина тоже нет. И мы тут по ночам при свечах. В подвале навали целый ящик свечей.
Чиркнула спичка, и одна за другой на большом столе зажглись пять свечей в тяжёлых бронзовых подсвечниках.
Гриша задёрнул окна тяжёлыми бархатными портьерами. И осветилась комната. Вернее, сначала осветился стол, и он поразил меня: старинная посуда, простой деревенский кувшин, бумаги, стопки книг. Но главное — на середине стоял пулемёт «Максим», и его воронёное дуло с мушкой тускло сверкало в трепетном свете свечей.
— Как интересно! — вырвалось у меня.
И я стала всё рассматривать, осторожно ступая по паркету, будто боялась, что кто-то остановит меня. Или прогонит.