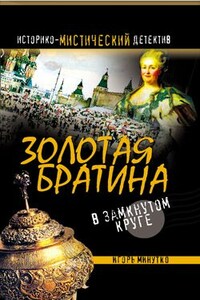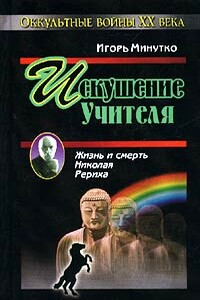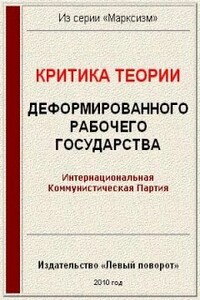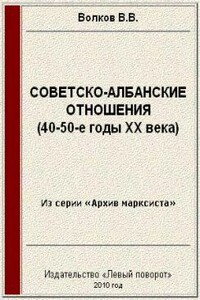Но главное, что я увидел в Златоусте и о чём прежде всего хотел рассказать тебе, — другое. Отвлёкся в начале письма. Вообще это интересно: собираешься написать одно, а получается — другое. Главное, Оля, — это рабочие Златоуста. Вернее, рабочие и хозяева. Данила Епифанович водил нас на завод, побывали мы в нескольких цехах. И я раньше бывал на заводах — ещё в Екатеринославе, где работал отец, в Минске на паровозоремонтном. В какой-то степени был подготовлен. Мои же новые друзья были буквально ошеломлены, подавлены, растоптаны увиденным. Да и я увидел то, что знал, в удесятерённом масштабе, ведь Златоустовский завод огромный.
Оля, какой же это ад! В каких невыносимых условиях работают люди! Жара, смрад, дышать нечем, никакой заботы о человеке, оглушительный грохот. И есть цеха, где рабочие на своих местах трудятся по одиннадцать часов. Жесточайшая система штрафов. А как люди живут! Мы были в двух рабочих слободках. Главное жильё — бараки, где в невероятной тесноте, в грязи ютятся рабочие семьи. Всё — как описано у Горького в повести «Мать», ничто не изменилось с тех пор. Народ угнетён и озлоблен. Есть тут (дальше в письме зачёркнуто). И надо только спичку, чтобы пороховой погреб взорвался. Он взорвётся, Оля! Так ещё долго продолжаться не может. Люди не скоты. Ведь это они создают здесь мощь и красоту Российского государства. А с ними обращаются именно как со скотом. Я чувствую всем своим существом, что приближается то, чему посвящена вся моя жизнь!
До скорой встречи, Оленька! Из Москвы жди телеграмму.
Обнимаю и целую тебя — твой Григорий».
...Четвёртого июля 1914 года в Минске на Виленском вокзале остановился скорый поезд «Москва — Варшава». Из вагона второго класса быстро вышел Григорий Каминский с небольшим саквояжем в руке — загорелый, казалось, ещё больше раздавшийся в плечах, стремительный, весь — олицетворение порыва. В шумной толпе на перроне он нетерпеливым взглядом искал Олю Тыдман. Среди встречающих её не было.
«Неужели не получила телеграмму?»
Навстречу ему шли Митя Тыдман и Илья Батхон. Григорий сразу заметил: у обоих какой-то растерянный вид.
«Что-то случилось...»
Пожали друг другу руки, обнялись.
— Тебя не узнать, — сказал Илья Батхон.
— Ты как с курорта, — сказал Митя и отвёл взгляд в сторону.
— Где Оля? Что с ней?
— Ничего... — сказал Митя.
— Она получила мою телеграмму?
— Я получил твою телеграмму. — Митя подавил вздох. — Оли нет в Минске, она в Италии.
— В Италии? — ахнул Григорий.
— Да, в Италии. — Митя заговорил быстро, ему необходимо было всё скорее сказать. — Её туда отправил к матери отец. Он каким-то образом узнал о том, что она ходит на занятия кружков, делает там доклады... Потом нашёл в её комнате листовки, которые она должна была передать в депо...
— Кто нашёл? — перебил Григорий. — Павел Емельянович в комнате Оли делал обыск?
— Нет конечно! Как ты мог подумать? Отец зашёл к ней, а на столе эта стопка листовок...
— Да как можно! — вырвалось у Каминского. — Сколько раз ей говорил о предельной осторожности!
— Всё равно бы это произошло, Гриша, — сказал Митя. — Отец почти сразу начал догадываться, ещё весной.
— И о тебе он всё знает? — спросил Каминский.
— Думаю, знает. Но со мной на эту тему разговоры не заводит. А про Олю сказал, когда её на вокзале провожали: «Дочь социал-демократам, ведущим страну в бездну, я не отдам». Вот такие дела...
— И Оля безропотно согласилась поехать?
— Безропотно? — Митя задумался. — Не знаю. В последние дни отец часто уединялся с Олей в библиотеке. Для долгих бесед. Меня на эти беседы не допускали.
— Ладно! — не сумев подавить ожесточение, сказал Григорий Каминский. — Пошли!
И тут заговорил молчавший до сих пор Илья Батхон:
— К дяде тебе возвращаться нельзя. Вернее... Алексей Александрович уже не живёт там, его вообще нет в Минске...
— То есть как нет? — Григорий ничего не понимал.
— Мы устроили его вместе с семьёй в Витебске, у надёжных людей. Временно...
— Да что случилось? — перебил Каминский.
— Среди наших товарищей идут аресты. Нависла угроза над твоим дядей. — Батхон вздохнул. — После ареста Стефана Любко и Шмула Штейнбова.