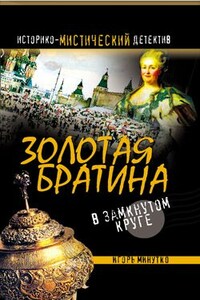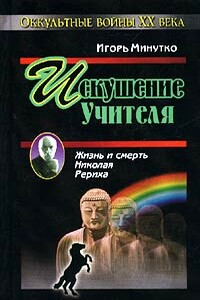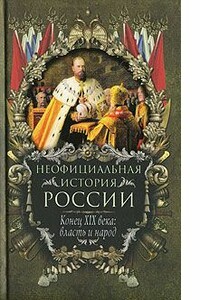— Едак мы второго пришествия дождёмся!
— Начальника поезда подавай! — шумел пожилой солдат с бледно-жёлтым и донельзя озлобленным лицом. — Мы с германцем бьёмся, а тута всё прахом!
Шумел, возмущался уже весь вагон, дымил самокрутками и папиросами.
Проводник, тучный, невозмутимый, с круглым лоснящимся лицом, на котором, отметил Каминский, ехидцей и непонятным злорадством посверкивали умные глазки неопределённого цвета, не то серые, не то зелёные, «водой налитые» — определил Григорий, — так этот проводник разъяснял гражданам обновлённой России:
— Тихо, любезные, без переживаний. Революция у нас. А при ей всяческие безобразия и возмущения спокойствий даже беспременны.
Напротив Григория Каминского сидела премиленькая барышня с личиком нежным и испуганным, прятала носик в заячий воротник длинного пальто, сшитого по комариной талии.
Рядом с ней здоровая баба в плисовой кацавейке кормила чёрным хлебом и репчатым луком двух сопливых ребятишек, которые все почёсывались. И вообще этот раздерганный старый вагон третьего класса до отказа был набит людом простым: солдатами, ехавшими с фронтов в родимые деревни — кто на короткий отпуск, кто насовсем, без руки ли, без ноги — словом, покалеченные во славу Отечества; мужиками и бабами тульских деревень, коих сорвали с мест революционные события, а может, какая иная нужда гнала в Москву, а кого в Питер — правду сыскать, управу на акцизного чиновника стребовать, а то и на урядника, который до февраля семнадцатого смотрел на тебя, как на пустое пространствие. А нынче — шалишь, братец! К народу образом своим ясным жизнь поворачивается. Детей тоже много в вагоне было — и чего их-то по свету таскать в такие лихие времена? — писк, крик, брань, а то и потасовка прямо на грязном, заплёванном полу в шелухе от семечек. Ещё были в вагоне люди мастеровые, в картузах и косоворотках из тёмного ситца, пожилые из них являли достоинство и неспешность, беседовали в общем гвалте голосами тихими, а молодые взглядом, прямо скажем, охальным, все миленькую барышню обсматривали: ты, мол, нос не очень-то вороти, в мех его не засовывай, нынче порядки революционные — все равны и перед законом, и перед етой... любовью.
А барышня чувствовала себя ужас как стеснённо, неловко, всё поглядывала, смущаясь и розовея, на Григория, ища сочувствия и понимания. Наконец сказала голоском тихим и робким, к нему обращаясь:
— Воздух... Абсолютно дышать нечем.
Каминский улыбнулся ей ободряюще и продекламировал довольно громко, так что и соседи некоторые вместе с барышней послушали:
Здесь русский дух!
Здесь Русью пахнет.
Барышня — вот же беда с ней! — совсем застеснялась, прямо так бы и выпорхнула из вагона, да невозможно. Отвернулась к замызганному окну.
Григорий Каминский испытал некоторый конфуз: «Может, зря я?» Однако тут же подумал: «А так и надо! Чего на тех, кто есть хозяева жизни, смотреть с высоты своего мнимого превосходства?»
Опять Григорий стал слушать разговоры вокруг себя, чем и занимался всю долгую дорогу. Интересно, поучительно.
А говорили вокруг него больше всего о войне: скорей бы конец ей, окаянной, сколько народу перегубила, перекалечила, мужика от дома оторвала, от земли. А весна-то, вот она, не за горами, оглянуться не успеешь, как уже в поле выходи, а кто в нонешнюю весну выйдет, чтоб за плугом идти, борозду поднимать на своём наделе? Безмужичной русская деревня стала по войне этой, чтоб её вовеки не видать. А бабы, само собой, о своём: с каждым днём в лавках и магазинах всё пустеет да пустеет, за хлебом, сахаром, ситцем, керосином с ночи очереди выстраиваются. Когда это стряслось, чтоб очереди в Туле или Москве? То, бывало, приказчики силком к прилавку тянут, разлюбезные, только бы денежки при тебе были — любых товаров и съестного прямо-таки завались. А нынче? Купцы да торговые люди три шкуры дерут, морды злые, нахальные. И нет на них ни управы, ни Бога. Или вправду от революции псе это сподобилось? Вверх тормашками перевернулось?
«Не от революции, — хочется вмешаться в разговор Григорию Каминскому. — Война во всём виновата».