— Мама, я в школе, — сказала Маржалета.
— Я тоже в школе, — с достоинством ответила Надина Семеновна.
— Не пойду.
Массивная фигура Надины Семеновны поторчала некоторое время в проеме, и дверь захлопнулась.
— Продолжим, — сказала Марь-Яна, поднимаясь со стула. Она взяла свой стул, поднесла и просунула в дверную ручку. В классе засмеялись.
— Не вижу ничего смешного. Рассказывай, Давыдова. Мы слушаем.
Алена опять вздохнула. Трудно было перестроиться на уроки. Сережка Жуков, как обычно, не слушал и даже не замечал того, что происходило в классе. Перед ним на столе лежала книга, он сидел, уткнувшись в нее.
— Сейчас бы прочитать хорошую книгу, — сказала Алена, имея в виду Сережку, но он не услышал ее.
— Что? — спросила учительница.
— Марь-Яна, можно я прочитаю стихи?
— Об экономике ФРГ?
— Нет.
— Никаких стихов, Давыдова. У нас урок географии. Что с тобой? Не знаешь урока?
— Знаю, — сказала очень серьезно Алена, и было видно: знает.
В классе зашумели: «Пусть прочитает», «Читай, Давыдова!»
— Или лучше тогда отпустите меня с урока.
Она сказала это без вызова, без озорства, устало и печально. Марь-Яна внимательно посмотрела на девчонку. На какую-то долю секунды увидела на месте Алены свою младшую сестру Катьку и сразу поняла по интонации, что надо разрешить. Подумала с нежностью о своей младшей сестренке и к Алене: «Господи, с. этими девчонками так легко наломать дров, так легко не услышать, что девчоночье сердечко бьется не в механическом, а в человеческом ритме».
— Ну, хорошо, Давыдова, читай, если иначе нельзя. Тиха-а! Тих-аа! В конце концов не каждый день нам предлагают стихи.
— «Признания в одиночестве».
Все притихли. Было что-то необычное в том, как озаглавила свои стихи Алена. Все ждали, что она прочтет.
— Жуков читает книжку, — сказала Алена.
— Жуков, убери книгу. Давыдова хочет прочитать свои стихи. Послушай и ты, пожалуйста.
— Да пусть читает, — сказал Сережа нехотя, пряча книгу в стол.
И наступила тишина. Сердце в груди Алены гулко билось, все громче, громче.
— «Передо мной бумажный лист трещит от чувств моих духовных, где каждый суффикс, словно свист, ломает строй стихов неровных. Чудак, он верит пустоте, которую я лью отныне, чтобы забыться вдалеке и жить одной в ночной пустыне, куда я часто ухожу, куя в груди своей металл, и я в себе враз нахожу чудесный мой сентиментал».
Хохот взорвал тишину недоумения, подбросил ребят над скамьями. Некоторые застучали ногами от удовольствия. Все были восхищены Аленой, тем, как она ловко сумела притвориться серьезной и взволнованной.
— Сентиментал! — восторженно всхлипывал Юрка Лютиков.
— Коровья тоска! Есть такая порода коров — сентиментальская. Честно!
— Симментальская, дурак!
— Лирика симментальской коровы, — сказал Валера. — Хи-хи!
— Га-га!
Алена и сама смеялась. Она не понимала, как это произошло. Зачем они смеются? И зачем она сама смеется? Она писала и читала серьезные стихи. Она высказала в них всю муку, которую невозможно больше нести в себе молча. Она выдохнула из себя тот серебристый воздух, которым надышалась. Серебристый с пылью. Но серебристое улетучилось, и в стихах осталась одна пыль. Алене было смешно до слез. Она хохотала и вытирала слезы.
— Хватит, — сказала учительница. — Давыдова, пойди погуляй.
— Я больше не буду.
Вместо признания получилась хулиганская выходка. Она сама предала свое признание и призвание — слишком долго ерничала, заигралась, зарифмовалась. Никто не заметил, что в этом стихотворении совсем почти не было нарочито уродливых поэтических фраз, а какие были, пришли в стихи сами. Алена вдруг поняла, что это и есть самое ужасное. Раньше так трудно было придумать что-нибудь глупое, нелепое в стиле «Бом-бом-альбома», а теперь глупое и нелепое само пришло в стихи, а она не заметила, она отнеслась к своим стихам всерьез. «Но ведь я чувствовала, чувствовала, — подумала Алена. — Мне же по-настоящему больно было и сладко от этих слов. Почему же они не почувствовали?»
После урока Марь-Яна хотела подойти к Алене, но девчонка убежала, толкнув в дверях Мишку Зуева так, что тот ударился об стену.
— Ты что? Во! — сказал он и кинулся в коридор.



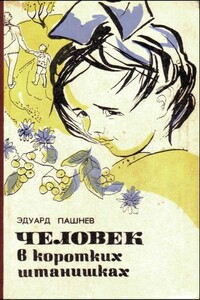


![Когда-то я скотину пас [сборник]](/uploads/books/images/c4/c4802de943fb89a35fb009b37289c29088cb308b.jpg)