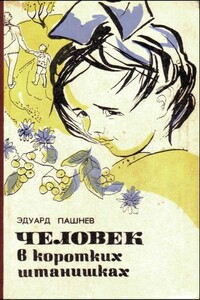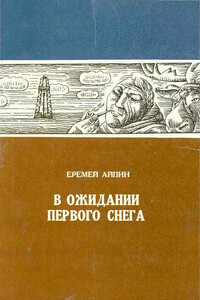«Передо мной бумажный лист, где каждый суффикс, словно свист, ломает строй стихов… каких-то, строй стихов… веселых, строй стихов… неизвестно каких… Надо придумать…»
В первой строфе она со свистом всех суффиксов поломает строй стихов веселых и напишет что-нибудь грустное, тревожно-сладкое. Ей хотелось доказать Валере Куманину, что он не сможет ее больше оскорбить. Она защитится от него откровенными стихами. Ей хотелось жертвенного признания, чтобы все ахнули и испугались, какая она отчаянная, не боится, что над ней будут смеяться, при всех признается в любви. Интересно, как Сережка воспримет: испугается вместе со всеми или будет сидеть с открытым от удивления ртом.
На всех этажах шли уроки, ее одноклассники бегали по двору на лыжах, а Алена в спортзале сочиняла свои первые, по-настоящему откровенные стихи. Она подставляла себя под удары слов с такой же жаждой боли, как Ахмадулина «Ударь в меня, как в бубен, не жалей»… Но и этого ей казалось мало. Она готова была, как Сергей Есенин, «рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души». Сердцу было больно и сладко придумывать тоскливые, разрывающие душу слова. И повторять их было больно и еще более сладко. Она читала вслух готовые строчки и вдохновенно ловила открытым ртом возвращающиеся к ней из всех уголков спортзала гулкие слова, ставшие эхом мысли и чувства.
На истории и на геометрии Алена продолжала сочинять свое новое, очень важное стихотворение. Доказывала у доски теорему и даже четверку получила, а в голове и во всем теле невидимый метроном отбивал размеренные доли чувства, заставляя жить в ритме стихотворения, заставляя подыскивать недостающие слова и рифмы. На перемене пришла последняя рифма, и Алена почувствовала, как во всем теле и в сознании наступила тишина.
На уроке географии Алена сидела обессиленная, как после трудной физической работы. Она отдыхала, почти не слушала, что говорила Марь-Яна, но смотрела на нее преданными глазами.
Открылась дверь, и заглянула мать Маржалеты. Эта полная женщина имела нормальное имя и отчество — Надежда Семеновна. Но она любила произносить имена с иностранным шиком, вместо Александры — Александрин, вместо Нюры или Анны — Аннэт. И ее, соответственно, звали все эти Александрины и Аннэты Надиной. А дочь Маргариту — Маржалета.
Надина Семеновна сначала заглянула в класс, потом поманила пальцем дочь и только после этого посмотрела на учительницу.
— Марина Яночка, извините!
Та хмуро покосилась на дверь, но ничего не сказала, только склонила голову к журналу, что могло означать и разрешение и отказ. Крупная, в мать, Маржалета вышла в коридор. На груди у этой рано оформившейся девицы болтался поверх школьной формы замочек на цепочке — такой же крик моды, как бритвочка. Бритвочка у нее тоже была. Маржалета как-то надела ее под платье с большим вырезом. Блестящая бритвочка так и легла в ложбинку. Ребята пришли в жуткий восторг. «Маржалета, обрежешь», — кричали они. Пришлось снять.
Вернулась Маржалета. Замочек она держала в руке. Шла по коридору, сердито наматывая на палец цепочку. Близкая к школе родительница, узнав о приезде журналистки, вызвала дочь, чтобы привести в соответствующий школьный вид.
Надину Семеновну выбрали председателем родительского комитета еще при старом директоре и с тех пор выбирали каждый год. Она любила общественную школьную работу, отдавала ей много времени. Муж Надины Семеновны руководил крупным строительно-монтажным управлением. Она доставала через него, когда требовалось, автобусы для экскурсий, грузовые автомобили, стройматериалы для ремонта школы.
— Давыдова, что ты на меня смотришь? — спросила Марь-Яна. — Хочешь отвечать? Иди!
— Нет. Я нечаянно.
В классе засмеялись.
— Иди, иди, Давыдова.
Алена вздохнула и пошла к доске. Рассказывать надо было об экономике ФРГ. Алена подошла к карте. Но в это время дверь снова открылась и показалась высокая прическа Надины Семеновны.
— Марина Яночка, еще на одну минуточку мою непокорную… Маржалета!
В голосе прозвучали наставительные нотки. Дочь ушла, видимо не дослушав наставления родительницы.